Мера всех вещей
Разговор коллекционера и галериста об искусстве и деньгах
Коллекционер Денис Химиляйне и галерист Сергей Попов соглашаются и спорят друг с другом о том, как понять значимость искусства, выясняют, зачем они занимаются своим делом, сравнивают Герхарда Рихтера с Васей Ложкиным, метеоритами и костями динозавра и обсуждают рациональный альтруизм, отсутствие вторичного рынка и свое влияние на положение вещей в арт-мире.

Попрошу каждого из вас сказать несколько слов о себе как о предпринимателе. На чем построена бизнес-модель «Прайм Эдвайса», на чем построена бизнес-модель галереи pop/off/art, как это работает?
Денис Химиляйне: Мы основали компанию в 1996 году. По сути дела, это консалтинговый бизнес, построенный на опыте «большой четверки», когда в рамках одной компании существует несколько направлений: юридический консалтинг, адвокатское бюро, аудиторская компания, оценочная компания, финансовый консалтинг, международное налоговое планирование. Мы сопровождаем сделки корпоративных клиентов, ведем частные финансы богатых людей, но только не в качестве инвестиционных консультантов. В нашей сфере – вопросы, связанные с международным налоговым планированием, просто налоговым планированием, сделки M&A, помощь в приобретении объектов недвижимости, которые люди уже выбрали, что сейчас актуально. А кроме того, мы крупный оператор по корпоративным и частным банкротствам. У нас большой опыт в этом. Если перечислять, в чьих банкротствах мы принимали участие не просто как юристы со стороны мелкого кредитора, а как ключевой игрок, то это «Севкабель», «Мирэкс», «Кондопожский ЦБК». Много всего.
Создание иностранной финансовой инфраструктуры для частного капитала, снятие санкций не входят в перечень ваших услуг?
Д. Х.: Почему? У нас офисы в Индонезии, Сингапуре, Эстонии, Бразилии, Турции. Мы помогаем состоятельным людям решать их проблемы.
Сергей Попов: Мне кажется, галерею с точки зрения бизнеса сложно оценивать не только в России, но и в мире. Тут все в основном вырастает из фанатской увлеченности искусством и каких-то минимальных продюсерских задач. Дальше, как правило, бизнес в течение нескольких лет разрушается. И уже было много таких циклов даже на моем жизненном пути. Остаются просто самые упертые, и иногда действительно получается зарабатывать на искусстве. Моя галерея в числе таких. Могу сказать, что более-менее предсказуемые годы с точки зрения прибыльности и, соответственно, возможности реинвестирования – это несколько последних лет, начиная с 2018‑го. И несколько лет перед финансовым кризисом 2008 года. Все остальные годы – это различные формы страданий и перекредитования.
Очевидно, что у вас разное деловое мышление, и modus operandi в бизнесе и коллекционировании должен различаться. На чем все строится?
Д. Х.: У меня компания построена на мультидисциплинарности. Один человек должен вмещать в себя несколько типов знаний. Я, например, содержу в себе знания финансов, бухгалтерии, налогов и юриспруденции. И это помогает решать проблемы клиента комплексно, тебе не нужно привлекать восемь специалистов для того, чтобы понять, куда идти, достаточно самого себя, чтобы посмотреть на проблему с разных сторон. Мне кажется, что это залог успеха, в том числе и в коллекционировании. Когда ты здесь можешь применить математическое мышление, здесь – гуманитарное, а здесь – юридическое. Это совершенно точно поможет сократить число ошибок.
Полагаю, Сергей, что ваше мышление скорее может быть названо гуманитарным?
С. П.: Да, я, к сожалению, типичный гуманитарий. Это минус для бизнеса, и это повлекло за собой неизбежные издержки до и во время кризиса. В моем возрасте получить математическое образование невозможно, но лично для меня важнее какие-то социокультурные практики и естественно-научный тип знаний. Не думаю, что это помогает в бизнесе, но по крайней мере дает возможность разобраться с самим собой. При этом умение считать для моего дела оказывается принципиальным. Галерея не может без этого существовать. И даже будь у тебя самые распрекрасные художники, известно очень много случаев, когда галерея разваливалась именно из-за неспособности сводить дебет с кредитом.
Один и тот же вопрос для искусствоведа и юриста, финансиста, аудитора. Есть ли какой-то экономический смысл в том, чтобы считать произведения искусства отдельным классом активов?
Д. Х.: Очевидно, да. Просто не все искусство можно воспринимать как класс активов, на мой взгляд. Потому что для инвестиционной привлекательности нужна ликвидность. А современное искусство, к сожалению, малоликвидно, и с этим ничего не сделаешь. Должно пройти поколение, чтобы украшать стену на кухне не постером из IKEA, а какой-то работой. Есть и другой принципиальный момент: когда мы, например, говорим про вложения в недвижимость, сразу понимаем, что квартира в Череповце и квартира в Москве имеют разную степень инвестиционной привлекательности. С искусством то же самое. Оно недемократично, как и недвижимость. Есть авторы, которые стоили, стоят и будут стоить, есть авторы, которые, возможно, будут стоить, а есть авторы, которые вообще никогда не будут стоить.
С. П.: Я бы добавил, что очень многое из того, что причисляется к искусству, на самом деле им не является. Квартира в Череповце – это все равно квартира. А картина, написанная маслом на холсте, как правило – и это не только в России так, – вообще не произведение искусства с социокультурной точки зрения.
С социокультурной точки зрения? С искусствоведческой?
С. П.: С искусствоведческой, да. Скорее так будем говорить. Я бы просто указал, что прежде всего нужно понять, как отличать современное искусство от того, что им не является, сопоставляя с аналогичными классами вещей в прошлом.
Достаточно ли нам опоры на уже существующие знания и статистику или контекст меняется так сильно, что прежние представления теряют объяснительный потенциал и вообще какую-либо ценность, кроме исторической?
С. П.: Если бы существовала четкая дефиниция, то, во‑первых, художники ее бы все время нарушали, во‑вторых, ей было бы слишком легко и комфортно следовать всем, кто желает понять, что такое искусство. На самом деле у людей очень много противоречивых предпочтений. То же самое можно сказать про музыку и литературу, про какие-то смежные области. Во всех этих сферах принципиальную роль играет консенсус недоговороспособных профессионалов. То есть чем больше экспертов из разных областей искусства, коммерческих и некоммерческих, согласны в оценке, тем вернее, что произведения конкретного автора обладают какими-то художественными качествами. За этим будут следовать его популярность, востребованность в профессиональной среде, потом рынок и, следовательно, инвестиционная привлекательность.
У нас эти цепочки уже давно выстроились в голове, а новому человеку приходится их или с трудом создавать, или, обладая методологическим пониманием, очень быстро принимать правильные решения. Денис как раз из тех людей, кто, придя в нашу сферу, довольно быстро разобрался в том, как это все устроено. Его вкус сегодня можно считать эталонным.
Д. Х.: Мне повезло, потому что я начал коллекционировать в 2015 году, когда рынок лежал. Ошибки, которые я совершал, не стоили мне очень больших денег. Те, кто будет входить в рынок сейчас, заплатят за свои ошибки больше, чем я, а платить обязательно придется. Здесь никуда не денешься.
Это нас подводит к следующей части разговора. Через какое решето вы пропускаете эту воду, как принимаете решение о покупке и почему в нем уверены?
Д. Х.: Когда ты тратишь такие деньги на покупку, ты, естественно, расходуешь еще и время, погружаясь в контекст, в литературу, критику, искусствоведение, продираешься через все эти непонятные слова и спустя месяцы или годы начинаешь что-то понимать. Но на это должно уйти определенное количество ресурсов, потому что любая новая деятельность требует вложений. И это вложение в себя. Сначала ты тратишь, а потом зарабатываешь, нужно только дойти до уровня, когда ты независимо от других экспертов принимаешь решение, с которым хотя бы часть из них тоже согласна. У меня получилось.
Сергей, интимный вопрос. Оцените количество покупателей в вашей галерее и скажите, кто эти люди.
С. П.: Это статистический вопрос, я бы сам хотел знать на него ответ. Могу сказать так, что есть десяток или дюжина ключевых клиентов, из которых несколько человек – это институциональные коллекционеры, известные нам по списку Forbes. Большая часть покупателей, разумеется, состоятельные люди, а общее число клиентов исчисляется несколькими сотнями. Это немало, и это задает какую-то перспективу. Но есть над чем работать.
Основной рывок пришелся на последние годы, потому что до этого был провал в том плане, что целый ряд коллекционеров или покупателей – об их разнице тоже можно поговорить – либо уехали, либо перестали приобретать произведения искусства.

Когда, с вашей точки зрения, Денис перестал быть покупателем и стал коллекционером?
С. П.: Он сразу стал коллекционером. Давайте у него и спросим, где вообще разница между покупателем искусства и коллекционером, есть ли она.
Д. Х.: Ответ очевиден, у покупателя – покупки, а у коллекционера – коллекция.
С. П.: Блестящее определение, никогда такого не слышал. Один из вариантов разграничения такой: покупатели приобретают вещи в основном для интерьера, для стен, но коллекция продолжается, когда стены закончились. Если у человека очень много стен, его случай просто перестает быть типичным. Мы раньше активно работали с международной аудиторией, и я могу припомнить среди своих коллекционеров владельцев очень маленькой недвижимости в Вене, где все увешано картинами от пола до потолка. И это именно коллекция, это не потребительский, не покупательский подход. Очень осмысленные вещи, которые выстраиваются в определенный ансамбль. Большое счастье попадать в такие коллекции.
Входя на арт-ярмарку «Каталог», я услышал фразу «купила искусство над диваном повесить». Такого рода покупатели вам нравятся?
С. П.: Это нормальный старт. Я за то, чтобы искусство было в каждом доме. На следующем этапе ты должен понять, зачем тебе нужно искусство помимо украшения интерьера. Все-таки искусство – это очень важная материальная метафора времени, в котором ты находишься. Можно случайно купить классную, очень важную вещь, но это будет скорее исключение. Самые важные вещи, как правило, оседают в значимых, системных коллекциях. Мне кажется, все ищут в коллекции именно это – возможность выразить время. И те, кто коллекционирует прошлое, и те, кто коллекционирует современность. На этой почве, кстати, происходят серьезные битвы между коллекционерами.
В чем ваш подход отличается от систем других коллекционеров?
Д. Х.: Мне сложно войти в голову Сергея Попова, в голову Антона Козлова, Игоря Маркина, Екатерины и Владимира Семенихиных и множества других коллекционеров. Я просто констатирую, что все разные, у каждого свои взгляды на то, что и зачем нужно собирать. Но все равно искусства больше, чем коллекционеров, и зачастую наш сегодняшний выбор строится от того, что было выбрано коллегами вчера. Например, зачем мне гоняться за ключевыми работами Иры Кориной, при всем моем к ней огромном уважении и понимании, что это большой художник? Лучшие вещи скупил Козлов. Что я скажу в Ире Кориной нового?
С. П.: У коллекционера есть цель сказать что-то новое путем приобретения?
Д. Х.: Конечно. Если вы брали интервью у чудесного коллекционера Пьера Броше, он наверняка говорил о страсти к искусству. У меня нет никакой страсти к искусству. Я достаточно цинично к нему подхожу и считаю, что покупаю вещи, важные для русской культуры. Они могут мне нравиться или не нравиться, быть близко или далеко от меня эстетически, но я считаю, что они важны для русской культуры. И первая задача коллекционера – сохранить. Государственные музеи не покупают. И где это все хранить? Куда это все денется?
Это рациональный альтруизм? Или все-таки есть любовь к культуре?
Д. Х.: Это задача. У тебя есть такая задача, ты ее решаешь. Ну, хорошо, любовь к русской культуре тоже есть. Ведь очевидно, почему я покупаю русскую, а не западную или восточную. Хотя, помимо любви, есть еще вопрос денег. Но на первом месте понимание важности того, что ты покупаешь и зачем ты это делаешь. Это некая миссия. Только на пьедестал я себя, конечно, не возношу. Все проще.
С. П.: Вернусь к предыдущему вопросу, он поможет ответить на нынешний. Мне кажется, что разница между коллекционером и покупателем в том, что все покупатели более или менее однообразны. А коллекционеры все разные. Те, кого Денис назвал или кого мы можем описать как публичных и непубличных коллекционеров, будут неповторимыми. Их коллекции строятся по принципу уникальности. И среди тех, кто привержен современному российскому искусству, собрание Дениса устремляется к числу нескольких эталонных. В нем делается попытка построить в определенную линию важные исторические имена и современность.
Такая же задача, скажем, есть у Антона Козлова. Но если Денис описал свой подход как рациональный, то подход Антона можно описать как схоластический. А Сергей Лимонов, например, отличается тем, что играет в живую современность. Ему важны художники последних 10 лет, его не интересует неофициальное искусство.
Д. Х.: У любых выкладок есть базовые предпосылки, они предшествуют системе, это надо понять. Когда меня спрашивают, почему вы стали коллекционером, я обычно отвечаю, потому что могу. Чтобы собирать, вам понадобятся деньги – это первое. (Заметим, что коллекционером западного искусства я быть не могу.) Второе, я тоже часто об этом говорю, мы живем в условиях ограниченных времени, денег, интересов, эмоций, желаний потратить свои усилия, наконец. И ты не можешь быть специалистом во всем, а искусство – невероятно большая область. Купить все не получится, тем более я собираю сам, у меня нет консультантов. Ко мне не приходят с готовыми списками и не говорят, надо взять вот это, с тебя столько-то. Я сам трачу свое время на то, чтобы отобрать работу, которую хочу иметь в коллекции. Однако жизнь не бесконечна, и другой не будет, поэтому я не намерен ездить на трамвае, чтобы скопить нужную сумму на следующий шедевр. Повторяю, у меня нет страсти. Я еще и бизнесом хочу заниматься, хочу в гольф играть, ходить в кино и театр. Хочу проживать жизнь, а не прожевывать ее.
С. П.: Я дополню только тем, что для коллекционеров современного искусства бывает важно личное взаимодействие с художниками. Ты можешь сколько угодно идентифицировать себя с художниками прошлого, если их собираешь, знать наизусть все письма и дневники, досконально понимать эпоху, фанатеть от этого (Роман Бабичев, Ильдар Галеев – такие люди), но все-таки у тебя не получится общаться со своими героями напрямую. А у нас есть такая возможность. И мне кажется, что крупные коллекционеры современного искусства этим дорожат. Я знаю, что Владимиру и Екатерине Семенихиным очень важно их общение с Эриком Булатовым, с Виктором Пивоваровым, с кем-то еще из художников.
Д. Х.: Мне тут надо прояснить свою позицию. Я не считаю, что наименование «коллекционер» делает тебя хорошим человеком. Но и звание «художник» тоже таким тебя не делает. Они бывают разными, как и все мы, среди них есть заурядные. Человек интересен в своем творчестве, в нем он целиком высказывается, но дальше – тишина. И мне скучно с ним общаться. Купить картины и подумать о них – да, разговаривать с автором – нет. А есть совсем другие художники, с которыми хочется выпить и поговорить. Опять же, наш круг общения – это не только художники, и я не делю так людей. К тому же сама постановка вопроса мне не нравится. У меня есть возможность общаться с художниками, и мне это важно. Простите, у них тоже есть возможность общаться со мной. Они тоже могут стремиться к разговору со мной.
Вы чувствуете к себе внимание со стороны художников?
Д. Х.: Слушайте, я недавно был на «Арт Москве», ко мне подошел человек и спрашивает: «Вы Денис? Можно я вам что-то подарю?» Тут я сразу убираю руки назад, не-не-не, ничего не надо. «У меня есть Instagram, запрещенная в России сеть, – говорю. – Можете мне туда что-нибудь отправить, я посмотрю ваши работы, а брать ничего не буду». Кто знает, чем пропитана эта бумага. Так что я чувствую внимание, но мне оно не нравится.
Кажется, вы оба очень сильно влияете на то, как художники видят свое будущее.
С. П.: Может, не очень скромно так отвечать на этот вопрос, но я и пришел на территорию искусства в качестве галериста, чтобы ее поменять. Я видел огромное количество недостатков, которые нужно исправить, и очень хорошо понимал, что нужно сделать для того, чтобы заполнить в истории белые пятна или обеспечить продвижение тем, кто этого по-настоящему достоин. Могу сказать, что, когда я начинал, про абстракцию вообще неприлично было говорить как про тип искусства. Критики и кураторы высокомерно называли ее живописью для офисов. И мне было обидно за многих крупных художников, поэтому я содействовал признанию некоторых исторически значимых фигур. Но дело не только в этом, любой из нас переустанавливает сложившийся порядок. И мне тут помогает моя позиция историка искусства. Я знаю, как мне кажется, где в нашей истории искусства провалы, а где достижения. И мне важно с этим работать еще и в общественной сфере, соизмеряя все с крупнейшими национальными типами искусства, с крупнейшими международными рынками. Так можно быстро выяснить, где чего недостает. В России, как обычно, почти всего недостает. Но как-то потихонечку, шаг за шагом это исправляется.
Д. Х.: Шаг за шагом, сам черт не брат. Я опять от общего к частному ответ поведу, надо сначала объяснить про галеристов. Если мы берем бизнес как таковой, то есть разные степени сложности входа на рынок. Самое простое – это быть художником. Тебе ничего не надо. Пошел в магазин, купил за недорого кисти, краски – и вперед. А потом в интернете разместил свои картинки и говоришь: «Они стоят 1,7 млн». (Мне сегодня человек присылает ссылку, спрашивает: это хорошо? Хорошо, говорю, но тебе это точно не надо, если уж очень нравится, то не дороже 300 тыс. рублей плати. Отвечает, что выставили цену 1,7 млн рублей.)
Для того чтобы стать галеристом, нужны деньги. Хотя бы аренду помещения оплатить. Но больше, к сожалению, ничего не надо. И сейчас такое количество людей туда полезло. У кого-то богатый муж, кто-то тратит свои. Надо же чем-то заниматься. А чем именно? Конечно, современным искусством. Ты идешь, смотришь на все это, и пора бы сказать им, что плохо. А с другой стороны, зачем критиковать? Они же не по парадным сидят с героином, просто вешают картинки на стены, пытаются продать какую-то эмоцию. Одно и то же у большинства, но вроде нормально. И все же быть хорошим галеристом очень сложно. Я бы не хотел брать на себя работу Сергея – находиться в зоне конкурентной борьбы и турбулентности. Вот коллекционера все любят, ему вина наливают и предлагают суфле. Зачем же мне менять свою жизнь с вином и суфле на эту непонятную борьбу за выживание?

А теперь про коллекционеров. Не кажется ли вам, что вы стали слишком большим и заметным? Что всем художникам надо выходить на орбиту вокруг коллекционера?
Д. Х.: «Я сам себе и небо, и луна». Это одновременно одна из задач и вынужденная история. Коллекционер может сколько угодно заблуждаться, но он дает повод и художникам, и галеристам задуматься о том, что и как они делают. У художников ведь есть серьезные проблемы самовосприятия и критического взгляда на себя. У них спектр сдвинут, а это очень важно. Человек не может быть всегда правым, он должен постоянно делать переоценку самого себя, все время размышлять, насколько хорошо или плохо он что-то сделал.
Галерейный бизнес в этой связи довольно специфический. Понимаете, если вы запускаете какой-то продукт, то результат будет виден через год, через два. А работу с художником ты не просчитаешь. Может, через 10 лет выстрелит, может, через 30, а может, и никогда. При этом в галерее у тебя должно быть 10–15 художников. И таких галерей много. Но вообще-то в поколении остаются 10 художников. В поколении!
Галерея как бизнес реализуется раньше, чем закрывается история поколения.
Д. Х.: Галереи продают искусство, они не продают мороженое. Мороженое растает. А искусство никуда не исчезает. Если ты заплатил за него 20 тыс. евро – это не копейки, – у тебя есть вопросы к тому, кто тебе его продал. И эти вопросы будут с тобой весь период жизни галереи. Ты в любой момент придешь и скажешь: а что ты мне продал тогда-то? С чего вдруг за такую цену? Это ответственность, которую я на себя не возьму.
Вы оба сказали, что вам и хотелось примерно той роли, в которой вы оказались, хотелось на что-то влиять и что-то менять. А как вы распоряжаетесь полученной властью? Властью коллекционера, властью галериста?
Д. Х.: Я считаю, что интеллектуал, к которым я себя отношу, должен говорить: это – черное, это – белое. Кто еще будет давать такие определения? Есть огромное количество людей, которые нам подсказывают: это – серое, не все так однозначно, мы вообще правды никогда не узнаем. Стоп. Если это дрянь и мерзость, это дрянь и мерзость. Если это хорошо, это хорошо. И я, как статусный коллекционер, сейчас имею право это говорить.
Хороший ответ.
С. П.: Становление искусства связано с критическим мышлением, с опровержением того, что было до тебя. Это отличительная черта современности. Моя задача – определять или переопределять эту современность. Кажется, что я и несколько моих коллег, в том числе искусствоведов, неплохо с этим справляемся. Думаю, что наша задача – генерировать не власть, а ответственность. У нас очень много ответственности. Вот у меня конкретно, у моих крупнейших коллег в галерейной сфере, у кураторов, музейщиков. Поскольку я еще историк искусства, я знаю, какова эта ответственность была в прошлом. От нее остается очень много следов. И тебе не должно быть стыдно ни за одно слово, ни за одну неправильно поставленную запятую. Только этим мы и ценны. Мы, можно сказать, ценны тем, что мы в пределах своего поля не идем на компромиссы.
При этом те, кто не идет на компромиссы, должны как-то конкурировать друг с другом, если речь идет о бизнесе.
С. П.: Если о бизнесе, то я честно 20 лет конкурирую с XL и другими достойными галереями. Но это конкуренция привычных моделей. Кто создаст новую нишу, чтобы перевернуть рынок? Кто-нибудь да начнет торговать высокотехнологичным искусством ровно в тот момент, когда оно станет более успешным, чем первая волна NFT. И они убьют вообще все галереи, включая Гагосяна. Просто никто из грандов не успеет к этой раздаче. Но сейчас, я считаю, мои настоящие конкуренты располагаются в Индии, Турции. А еще во Франции, Германии, Польше. Кстати, в Польше рынок по объему больше российского, в Турции тоже. Прекрасные конкуренты. Они меня бодрят, будоражат. Я думаю, как этих товарищей-то обойти на международных рынках.
На международных? Сколько российских художников купят сегодня на «Арт-Базеле»?
Д. Х.: Российское искусство, если мы говорим о качестве, ничуть не хуже западного. У него все в порядке на уровне идей. Проблема российского искусства в том, что его не покупают россияне. А проблема российского рынка современного искусства в том, что он раза в два меньше, чем одна работа Ротко по стоимости.
С. П.: Был момент, когда оценивали маленькую картину Бэкона, причем оценка разнилась на треть – 20–30 млн. Весь наш рынок умещался в разницу эстимейта одной картины Бэкона. Сейчас уже в одну картину Бэкона. Годовой оборот рынка современного искусства – это 30–35 млн долларов, я думаю. Сужу по своему объему, зная примерно, какую долю мы занимаем. Хотя сегодня пирог как бы увеличился за счет прихода разной белиберды.
Экономический суд – это самый важный суд, перед которым несут ответственность и художники, и галеристы?
С. П.: Нет, суд истории самый важный. Но мы не должны его ждать, мы должны его все время выносить или хотя бы приближать. Потому что когда художник говорит, что его вещи оценят потомки, это блеф. Их оценивают сейчас. Другое дело, что мы не можем их всегда объективно оценивать. Выигрывают: а) самые влиятельные, б) самые точные. Это абсолютно разные сюжеты. Я, как историк искусства, могу сказать, что мы оперируем, конечно же, этими двумя категориями. Что такое «точная оценка»? Это, скажем, фотограф Надар, который дал импрессионистам свое ателье для легендарной первой выставки. А что такое «влиятельная оценка»? Это фраза Бенуа про «Черный квадрат» Малевича, которую все повторяли. Он назвал его черной иконой. Или Сергей Булгаков сказал про Пикассо «труп красоты». Это метафора, которая живет десятилетия. Поэтому наша задача – делать и формулировать максимально точно и максимально влиятельно. Чтобы твой голос звучал таким эхом в истории искусства. А что там скажут потомки, в принципе, никого не интересует, сама ситуация на земле может поменяться.
Д. Х.: Я с Сергеем не согласен насчет экономического суда. Он и для личности выступает субститутом истории, если мы признаем конечность человеческой жизни. Иначе можно и голос потомков учитывать в качестве неизвестного, у них с нами равные права. Что можем зафиксировать мы сами? То, что деньги рано или поздно станут ключевым показателем. Допустим, сегодня чьи-то работы не продаются, а я считаю их автора хорошим художником. Если моя оценка верна, они когда-то все равно будут стоить дорого.
Мы можем взять в качестве примера Бориса Турецкого или Юрия Злотникова, их работы не ценились коллекционерами тогда, а сейчас ценятся. Но если мое мнение спустя полвека никто не разделит, никакие метафоры не помогут повлиять на стоимость.
В классической политэкономии у денег есть пять функций. Назову одну. Это мера стоимости, всеобщий эквивалент. Ты переводишь ценность одной работы через деньги в ценность другой работы. Тебе же нужно как-то сравнивать Кабакова с Булатовым. Тебе нужно сравнивать Герхарда Рихтера с Васей Ложкиным. И для этого существуют деньги.
С. П.: И тут не только Герхарда Рихтера с Васей Ложкиным, хотя это превосходное сопоставление, можно сравнить таким же образом Рихтера с бриллиантами, Рихтера с метеоритами, Рихтера с костями динозавра.
Д. Х.: Все делается через деньги. Это просто некая математическая величина. И рано или поздно недооцененный художник, если история его воспримет как значимого, будет стоить денег. А если не воспримет, значит, его и не было. Давайте для будущей проверки скажу, что безусловно большими художниками я считаю Хаима Сокола и Виталия Пушницкого (хотя он стоит денег уже).
С. П.: Давай возьмем тех, кто не стоит.
Д. Х.: Таких имен будет очень мало. Я считаю, что Женя Гранильщиков должен быть оценен. Подпишусь под Андреем Кузькиным, под Людой Барониной. Не знаю почему, но есть какое-то ощущение. Думаю, что Игорь Самолёт, который в XL начал что-то интересное делать, будет стоить гораздо дороже. Ира Корина. Сейчас она стоит примерно 5 тыс. долларов, будет больше. Но я понимаю, если ты скажешь людям в Череповце или Вологде про 5 тыс. долларов, они покрутят пальцем у виска.
С. П.: Подожди, а если ты в Лондоне скажешь, они заявят, что мы нищеброды, да? «Это один из самых ваших известных художников? Ребята, что у вас с рынком?» Примерно так.
Д. Х.: Рынок современного искусства – это некое, как ты сказал, зеркало экономического и культурного состояния. Не помню, чьи были слова о том, что какое же у нас настоящее, если мы в будущем хотим, чтобы было как в прошлом. Никогда не думал, что Эрик Булатов снова станет актуальным. Но не надо предаваться тоске. Когда я не занимался коллекционированием современного искусства, у меня были деньги и друзья, которые приходили и говорили: «Давай вложимся в интересный бизнес». Через какое-то время у меня не было ни денег, ни бизнеса, ни друзей. С тех пор как я стал покупать искусство, у меня остаются и друзья, и деньги, и бизнес.
Коллекционеры иногда рассуждают в терминах котировок, художник пошел вверх, пошел вниз. Если вниз, то надо продавать или, может быть, докупать, если веришь своей изначальной оценке?
Д. Х.: Продавать иногда надо, только возвращаемся к ликвидности. Есть художники, которых покупают, как только ты снял их со стены. Это деньги. У тебя на стене висят деньги. Краснопевцев, Чуйков, Рогинский, Зверев, Сидур, Свешников. Их много. Я могу написать книжку «Инвестиции в искусство для дураков», могу матрицу сделать, она у меня в голове уже есть. Вот Зверев, в этом хорошем периоде ты должен покупать такие работы, в этом периоде – вот такие. Цены, адреса, пароли. Но если мы говорим про современное искусство, то вторичного рынка просто нет. Так что не надейся на перепродажу, ты покупаешь это своим детям.
Источник: WEALTH Navigator
Хедж-фонды против дефицита идей

Даниил Аплеев – о смысле и назначении хедж-фондов, их правильной интеграции в портфель и возможности импортозаместить этот класс активов в России.
Венчурная оттепель

«Венчурная зима» – популярная метафора для описания ситуации на российском венчурном рынке в последние пару лет. Часть инвесторов перестала вкладываться в российские проекты, часть потеряла интерес к высокорискованным сделкам, а многим стартапам пришлось выбирать между работой на отечественном и международном рынках. WEALTH Navigator узнал, чем сейчас живут российские венчурные инвесторы и есть ли у нас «звездные» стартапы с перспективами на глобальных рынках.
Инвестиции в элитную недвижимость на этапе строительства

Александр Икрянников – с анализом специфики момента и прогнозом на ближайшее будущее.
Аукционный марш быков и минотавров

Ксения Апель напоминает о значимости и стоимости Пикассо не для того, чтобы в очередной раз напугать ценами, а чтобы привлечь внимание к его доступности. Вернее, к доступности его керамики и графики.
Самоидентификация. Дорого

Большинство состоятельных коллекционеров покупают искусство, не думая об этом как об инвестиции. Далеко не все из них согласятся с мыслью, что это вообще имело какой-то финансовый смысл. Однако арт-рынок намерен расти, а хайнеты готовы тратить. Где, как и зачем они это делают, изучали в совместном исследовании Art Basel и UBS.
О времени арт-рынка

Валерия Колычева размышляет об инвестиционной привлекательности произведений искусства, проверяет на прочность идею о том, что при правильном подходе арт-рынок обыгрывает фондовый по потенциальной доходности, и Измеряет «справедливость» аукционных результатов в мысленном эксперименте.





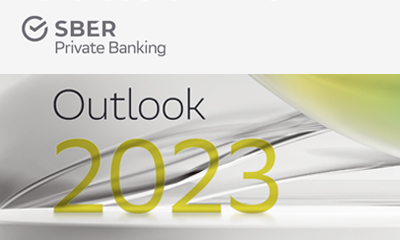
Оставить комментарий