Я - город
Заседание очередного Spear's Club состоялось еще в мирное время - незадолго до того, как пресловутая пандемия отсекла нашу глобализованную аудиторию от привычной возможности глобализованную аудиторию от привычной возможности перемещаться между странами и даже в более узком пространстве - внутри собственного города. Отличный момент, чтобы порассуждать на тему городской социологии с ее признанным знатоком Виктором Вахштайном. Это дискуссия о том, что такое мы в городе, и что такое город в нас.

Социология – это не цифры, не проценты и не распределения. Это один из способов увидеть мир. Так же как экономика, психология или география. Социологические модели видения мира сталкиваются с моделями из других дисциплин и одновременно конкурируют друг с другом за право навязать вам оптику, некоторые способы мышления о том, что мы видим.
Сегодня мы обсудим этот вопрос на примере социологии города, в частности двух базовых ее концептов. Один из них – это идентичность города. Второй – городская идентичность. Когда человек заявляет, что для него важно жить в некоем конкретном городе, скажем, в Москве, чувствовать себя москвичом, что он с этим городом как-то связан, мы говорим о «городской идентичности». В свою очередь, «идентичность города» – это вопрос о том, в какой степени город имеет свое лицо. И самое главное – когда можно говорить, что именно вот тот город, который был «городом Х», кончился и начался какой-то новый «город Y». Например, можно ли считать Роттердам до и после бомбардировок гитлеровцами одним и тем же городом? Или Москву до и после хипстерского урбанизма и парка Горького? В какой момент город становится чем-то другим? Утрачивает одну идентичность и приобретает новую? Первым вопросом занимается «социальная психология». Вторым – «социальная топология». В одном случае мы постоянно задаемся вопросом, как люди воспринимают то место, в котором они живут, и насколько значимым остается для них это место. Во втором нас интересует, что делает город городом. В обоих случаях используется слово «идентичность», но у него очень разное значение. Несколько лет назад мы провели исследование, в ходе которого в числе прочего попытались выяснить: какой процент постоянно живущих здесь людей идентифицируют себя с этим городом? И связано ли это как-то с фактом рождения?
Оказалось, около 2/3 москвичей, которые проживают здесь постоянно, являются уроженцами других мест. А примерно у 1/3 здесь постоянно живущих довольно сильная московская идентичность. Но это разные трети. Выяснилось, что у уроженцев Москвы нет сильной московской идентичности: коренной москвич скорее чувствует себя гражданином страны, гражданином мира, при этом не связывает себя с этим городом. Самая же выраженная московская идентичность у людей, которые прожили здесь 10 и более лет. Получается, московская идентичность – странный предмет: у тех, кто живет здесь недавно, ее еще нет, а у тех, кто здесь родился, – ее, в сущности, никогда и не было. Так работает социологическая теория городской идентичности. Мы позаимствовали ее у психологов. Понятно, что стоит за этой идеей. Есть некое пространство, в нем живут люди, эти люди с чем-то себя отождествляют и ассоциируют. И если они отождествляют себя с чем-то очень сильно, это что-то становится предметом их гордости, привязанности, самосознания. Тогда мы и говорим, что у них есть идентичность.
Враг у ворот
Принципиальный вопрос: что стоит за таким способом мышления о городе как о контейнере, где действуют люди, которые каким-то образом себе его представляют, и либо связывают себя с ним, либо нет. За этим стоит базовая психологическая интуиция, что вам в действительности все равно, какой это город на самом деле. Мы не обязаны выяснять, благоустроен этот город или нет, какой он по форме, насколько удобен для жизни – мы ничего не обязаны знать о городе самом по себе. Должны изучать, как люди воспринимают город в контексте своей жизни, связывают ли себя с ним. Но если для психолога такой подход выглядит нормальным, то для социо лога это всегда немного странно. Задача психолога – понять, как устроена идентичность. Задача социолога – понять, как устроен социальный порядок. И тогда мы переставляем акценты: с психологической идентичности на социальные отношения. Проблема теперь ставится иначе: как ваши связи с другими людьми определяют ваше восприятие себя и то, чувствуете ли вы себя в городе как дома. За этой логикой стоит классик нашей дисциплины Георг Зиммель, который предложил работающую до сих пор теоретическую модель на базе двух различений: социального («свои/чужие») и пространственного («здесь/там»). Когда мы говорим об идентичности или сообществе, мы считаем, что это те, которые «свои – здесь». То есть это люди, с которыми мы связаны социальными отношениями, с которыми разделяем общее пространство жизни. Исторически для формирования идентичности было необходимо наличие фигуры врага. Того, кто с нами ничем не связан и расположился где-то за стеной. Определяя, кто для нас является «своим – здесь», мы параллельно задаем круг «чужих – там». Есть еще представители диаспоры: «свои – там», то есть люди, близкие нам социально, но удаленные пространственно. И, что особенно важно, чужаки: «чужие – здесь». Те, с кем мы разделяем пространство жизни, но не связаны социально. Если разбираться с Зиммелем серьезно, то эволюция города состоит как раз в том, что никакой городской идентичности в перспективе в больших городах не будет, потому что в городе мы все друг другу «чужие – здесь». Мы разделяем пространство жизни, не разделяя ничего общего в остальных отношениях. Вы пытаетесь при этом выстроить какую-то идентичность – профессиональную, коллегиальную, городскую, районную, но этого не происходит. Потому что усиление взаимной чуждости является основой в том числе экономического развития городов. Мегаполис – пространство чужаков, в нем нет места квазидеревенским сообществам и сильным социальным связям. Чем было бы такое сообщество (основанное на сильных и плотных связях людей друг с другом) в мегаполисе? Гетто. Слово «гетто» некогда обозначало конкретное еврейское поселение в венецианском районе Каннареджо. Затем этим словом стало обозначаться любое компактное еврейское поселение в городской черте. И именно в таком качестве – имени класса объектов – оно оказывается в названии книги Луиса Вирта. Однако благодаря Вирту «гетто» терминологизируется, встраивается в сеть взаимосвязанных определений и начинает работать как часть словаря городской социологии. Теперь им обозначается район, обладающий пятью признаками: 1) однородностью состава жителей (по некоторому социальному параметру); 2) плотностью социальных связей между ними; 3) выраженной пространственной границей; 4) компактностью расселения; 5) территориальной идентичностью. Под такое определение гетто попадают с равной вероятностью и некоторые районы в Гольянове и элитные поселки на Рублевском шоссе. В том исследовании, которое я уже упоминал, мы пытались замерить, как связаны параметры социальной плотности, территориальная идентичность и доверие между людьми. Получилась любопытная кривая. Когда вы совсем не знаете своих соседей, вы не доверяете району своего проживания и воспринимаете его как опасный. По мере того как растет число социальных связей на районе – вы здороваетесь в лифте, знаете, как кого зовут, и опознаете в лицо, – растет и чувство безопасности. Но лишь до какого-то предела. Потом оно снова стремительно падает. Потому что если вы знаете всех своих соседей, то живете в гетто. И у жителей гетто может быть очень сильная идентичность с районом своего проживания, но не с городом в целом.
Содержание формы
А теперь перейдем от идентичности горожан к идентичности самого города. Можем ли мы вообще утверждать, что город – это целостный объект сам по себе, который может изучаться с точки зрения его собственной идентичности, а не идентичности людей, его населяющих? Ставя эти вопросы, мы попадаем в область, которая возникла около 20 лет назад – область социальной топологии. В ее основе лежит старая философская идея, что сущность любого объекта определяется той сетью отношений, в которую он включен. По большому счету социальный тополог должен ответить на ключевой вопрос: при каких преобразованиях объект Х – например, город – все еще остается объектом Х. Например, остается ли Москва тем же самым городом после того, как к ней прирезали «новую Москву»? Для этого надо ответить, как это присоединение изменило конститутивные отношения, которые делают Москву Москвой. Что поменялось, что осталось прежним. И здесь мы приходим к идее множественности пространств. Представьте, что любой объект одновременно находится в двух измерениях – физическом (Москва имеет конкретные географические границы) и в семантическом. Семантическое пространство – это пространство значимых отношений. Между отдельными элементами мегаполиса – раз, и между мегаполисом и другими пространственными объектами (в том числе другими населенными пунктами) – два. Здесь работает аналогия со словами в языке, которые приобретают смысл не сами по себе, но в отношениях с другими словами. Таким образом, смысл – это эффект отношения между словами, а не «внутреннее» содержание самого слова. Эту логику можно опрокинуть на материальные объекты. В работе одного из создателей социальной топологии Джона Ло этот тезис иллюстрируется на примере галеона времен португальской экспансии. Корабль одновременно находится в двух пространствах. Физическом – он перемещается из точки А в точку Б, сохраняя свою физическую форму. И семантическом – он связан с портом, из которого он вышел, и с портом, в который он придет, с грузом, с командой, с навигационными инструментами, с течениями и ветром. Эта сеть отношений делает корабль кораблем. По ходу путешествия многое может поменяться: груз выбросят за борт в шторм, мачты заменят в первом же порту, часть команды умрет. В итоге, когда галеон попадет в конечный порт назначения, от него может не остаться ничего, что было в начале плавания. Это все еще тот же корабль или уже нет? Для социального тополога ответ однозначен: до тех пор, пока устойчивым остается ядро отношений (социальных и материальных), которые стабилизируют его идентичность функционально, это все еще тот же самый объект. Если галеон не превратился в «летучий голландец» после смерти всей команды от цинги, его не захватили пираты и не переоборудовали в каперское судно, он остался тем же галеоном. В этом случае с ним произошло гомеоморфное преобразование – то есть на языке социальной топологии, преобразование с сохранением формы. Но если, например, храм превратился в бассейн, а потом снова стал храмом, это уже другой объект. Подобное изменение называется смещением в семантическом пространстве, или «катастрофой»: был корабль, стал «летучий голландец»; был храм, стал бассейн. Это принципиально важный вопрос для Москвы, где 2/3 живущих в ней не родились: каким темпом происходит обновление московского населения. После Реконкисты в Гранаде осталось больше мавров, чем сегодня в Москве коренных москвичей. Если мы к этому добавим некоторое количество изменений экономических функций и так далее, возникает вопрос, можем ли мы для Москвы определить условия гомеоморф ных/ негомеоморфных преобразований?
Глобальные города
Первая область, где были эмпирически использованы данные социальной топологии, – исследования организаций. Вторая – постколониальные исследования. Представьте заморскую территорию, где четыре враждующие державы создают свои поселения. На первом этапе между ними нет никакой связи, но у каждой из них есть очень сильные связи с метрополиями. У них нет общих границ, и тем более не может быть никакой общей идентичности. Но по мере разрастания у них начинают появляться общие границы, устанавливаются более тесные связи друг с другом. Социальная топология показывает буквально математически, как образование одних связей и их усиление приводит к ослаблению других. В приложении к городу это означает, что по мере усиления внутренних связей (скажем, между мэрией и районами) начинает исчезать понятие локального сообщества. Чем сильнее внутренние связи, тем слабее внешние. Тогда получается, что гетто – это не «деревня в городе», но это тот район города, который сохранил свои внешние связи в качестве более устойчивых по сравнению с внутренними. Теперь представим: есть города, которые сформированы ядром устойчивых отношений на их территории, локализованные в своих пределах. То есть их топологические и географические границы совпадают. Например, Петербург очень сильно связан с тем, что расположено на его территории, – сложно себе представить, что завтра петербуржцы вдруг перенесли бы свои дома куда-то в другой регион, а Петербург все еще остался бы Петербургом. Но при этом, когда мы говорим о глобальных городах, то с ужасом выясняем, что огромное количество устойчивых отношений, которые делают, например, Москву Москвой, не связаны с объектами, локализованными на ее территории. Связи, устойчиво воспроизводящие идентичность Москвы, – это связи с объектами, которые не находятся «внутри» нее. Здесь мы сталкиваемся с одной из ключевых проблем так называемых глобальных городов. Сегодня в Европе мировые столицы «перепрошиты» социальными, экономическими и иными отношениями. Их коммуникации друг с другом сильнее, чем со странами, столицами которых они являются. Столицы сегодня – это своего рода города-аэропорты. Люди, населяющие эти города, тоже больше интересуются связями вовне, а не внутри. Из этого вытекает довольно любопытная теорема: у крупных городов, у которых «собирающие» их отношения находятся за их физическими пределами, нет устойчивого ядра отношений. И здесь надо вернуться к исходной постановке проблемы: как связаны между собой субъективное понимание идентичности, идентичности человека, который живет в городе, как-то с ним себя соотносит, и идентичность самого города, его встроенность в некоторые потоки изменений и структуру отношений его жителей. На последних исследованиях мы видим, что чем менее устойчивым явля ется ядро отношений мегаполиса, чем больше он распространен, встроен в глобальные потоки изменений, тем в меньшей степени существует связанная с мегаполисом идентичность. Проживая в Москве, по сути, человек живет не в Москве, но в тех отношениях, в которых живет Москва. Из этого вытекает вопрос, можем ли мы построить устойчивую модель, способную объяснить, что произойдет, если эта история продлится. Должны ли мы в этот момент бороться за московскую идентичность и говорить, что да, люди должны себя чувствовать частью городской машины? То, о чем любят говорить урбанисты, постоянно отсылая к городским сообществам. Или в этот момент мы должны расслабиться и сказать: коллеги, какая разница! Если этот город существует в глобальных отношениях, в глобальных потоках; если то, что делает этот город этим городом, не локализовано на его территории, не константно, но постоянно меняется, может быть, стоит просто оставить людей в покое с московской идентичностью?
Однозначных ответов на эти вопросы пока нет – их предстоит найти.
Школы XXII века

В 2022 году Ближний Восток стал новым востребованным направлением для среднего образования у россиян – это отмечают многие эксперты на рынке международного образования. Лучшие частные школы региона по многим параметрам не уступают британским, заверила Антона Солдатова директор агентства зарубежного образования ITEC Нина Колташова.
Дверь по-прежнему открыта

С начала 2022 года многие программы сотрудничества между Россией и западными странами были свернуты. Это коснулось и академической сферы. Но престижные частные школы по-прежнему готовы принимать россиян. Антон Солдатов узнал, что изменилось и о чем следует помнить, выбирая для ребенка такой путь.
Прагматизм другого порядка
.jpg?1686833167)
Образование не привилегия, а неотъемлемое право каждого, и российские предприниматели готовы помогать его реализации, вкладывая личные деньги в создание частных школ и детских садов. Хотя чаще всего эти инвестиции трудно назвать бизнесом в чистом виде, для многих – как следует из дискуссии, организованной в конце апреля Рыбаков Фондом, – они продиктованы прагматизмом, но другого порядка.
Как пересобираются школы

Когда нынешние первоклашки вырастут, более половины из них будут работать по тем специальностям, которых пока не существует. Это означает, что образовательные системы должны готовить детей к жизни и работе в неизвестном (и невообразимом пока) мире. Содержание и формы образования будущего обобщил Антон Солдатов.
Очень большая малая энергетика. Часть вторая

В продолжении своего большого интервью владелец ярославской инжиниринговой группы ПСМ («Промышленные силовые машины») Андрей Медведев рассказывает WEALTH Navigator о будущем децентрализованного энергоснабжения и объясняет, как наступившая эпоха рынка качественного производителя и его личный невротизм заставят компанию расти и сделают его миллиардером.
Левые и правые технологического спектра

Руслан Юсуфов спорит с Марком Андриссеном, Сэмом Альтманом, Сундаром Пичаи и Брайаном Чески, предсказывает протесты новых луддитов и пытается понять, «каким будет столкновение идеального видения будущего ИИ с реальностью его реализации».
Экономика и венчур. О чем писали в блогах

Финансы стремительно токенизируются, новые цифровые активы так или иначе используют почти все финансовые организации, установили исследователи GDF. Ценность сети – будь то блокчейн или нетворкинг – в количестве участников, напоминает предприниматель Джейсон Розенталь. Сэм Альтман из OpenAI полюбил разговаривать с компьютером после запуска новой языковой модели. Венчурный капиталист Чамат Палихапития исследует, как меняется роль медиа и их влияние на потребителей. Автор «Глобального неравенства» экономист Бранко Миланович вспоминает издания, которые он любил читать в разные периоды жизни, и сокрушается, что в нью-йоркском метро уже не встретишь человека с газетой.
Экономика и венчур. О чем писали в блогах

Инвесторы и исследователи размышляли, как государствам регулировать искусственный интеллект, чтобы соблюсти социальную справедливость и избежать усиления неравенства. Экономисты прощались с отцом поведенческой экономики, нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом, который умер 27 марта в возрасте 90 лет. Другой нобелевский лауреат, Жан Тироль, посмотрел на риски и возможности криптовалют беспристрастным взглядом экономиста. А гуру менеджмента Ицхак Адизес написал в своем блоге о простых радостях.




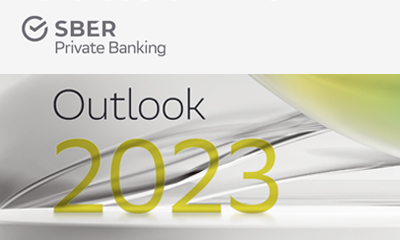
Оставить комментарий