Одна десятая портфеля
События последних полутора лет не снизили интереса к альтернативным инвестициям, в которые принято аллоцировать до десятой части инвестпортфелей хайнетов. Будущее этого рынка за цифровыми финансовыми активами, над созданием, а также отладкой и тестированием инфраструктуры которых активно работают все поставщики, включая Росбанк. Об этом в интервью Wealth Navigator рассказал руководитель направления портфельного инвестиционного предложения и развития платформ Rosbank L'Hermitage Private Banking Андрей Алексеев.

Если следовать прямолинейной логике, то после февраля прошлого года интерес к альтернативным инвестициям должен был поугаснуть: в трудные времена не до экзотики. Это так, если судить по поведению ваших клиентов?
Тема альтернативных инвестиций развивается. Не так давно я участвовал в конференции, как раз посвященной альтернативным инвестициям. Это была, наверное, первая конференция в моей жизни, где после восьми часов выступлений никто не хотел расходиться: инвесторам всегда есть дело до новых инвестиционных решений.
И я бы не стал называть альтернативные инвестиции экзотикой – это развитые, капитализированные подклассы активов, с хорошей инфраструктурой: это доли/акции непубличных компаний, включая венчур, долг непубличных компаний, хедж-фонды, недвижимость, товары (commodities), коллекционные предметы, структурированные продукты, а в последнее время еще и ЦФА. Интерес ко всем этим сегментам со стороны хайнетов никуда не исчез, даже местами вырос.
Например, в прошлом году появилось очень много возможностей для покупки долей уходящих иностранных компаний. Хотя первая волна уже прошла, спрос на такие инвестиции остается и сейчас.
То же самое в недвижимости. Сейчас мы видим большую стройку по всей стране: начиная с материалов и заканчивая самим строительством, продажей готовых объектов – все переживает бум. Покупаются и продаются такие объекты, как яхты и самолеты, которые также формально относят к недвижимому имуществу.
Появились интересные возможности в частном долге. Из последних предложений, которые мне показались особенными: мы ведем работу над тем, чтобы в ближайшее время поставить на полку инвестиционный продукт в портфель долгов малых компаний, который имеет низкий риск в силу высокотехнологичной скоринговой модели и высокую доходность, так как с этим сегментом очень мало кто умеет работать в кредитовании. По сути, это будет мини-фонд с высокой рублевой доходностью. Мы делаем его в партнерстве с одним из специализированных банков, который через свою скоринговую модель научился упаковывать много таких долгов, при низком уровне дефолтов и доходностью 17–18 % годовых, еще до последнего повышения ставки ЦБ.
Другие альтернативные активы?
Вино, искусство, структурированные продукты по-прежнему актуальны. Очень заметный тренд последних полутора лет – быстрый рост оборотов торговли именно российским искусством.
Хедж-фонды тоже интересны. Хотя в чистом виде на российском рынке их не так много, зато достаточно аналогов в форме портфелей на базе полисов индивидуального страхования жизни или доверительного управления из структурированных продуктов.
Санкционные ограничения, в том числе инфраструктурные, остаются? Влияют на ваше предложение?
Ограничения есть. Например, связанные с запретом прямых поставок в Россию предметов роскоши. Тех же коллекционных вин: вы можете купить то, что уже сейчас находится здесь, но не из нового урожая.
Вообще, я бы не сказал, что структура нашего бизнеса за эти два года сильно поменялась. Она просто более четко разделилась между иностранной и российской частями. Мы по-прежнему делаем крупные инвестиционные портфели, в том числе на базе иностранных решений и продуктов. Просто мы стали вести их не только у нас в Росбанке, но также в компаниях-партнерах в дружественных для нас юрисдикциях.
Клиенту просто надо знать, что в действительности даже в текущих условиях многое по-прежнему доступно, не невозможно. Хотя, к сожалению, усложнение инфраструктуры повлияло на наши и клиентские издержки. Они выросли.
Традиционная рекомендация держать в этих инструментах около 10% портфеля остается? Соблюдается? Разумность этой рекомендации подтверждается статистикой (доходностью) за последние пару лет? О каких классах активов стоит поговорить особо?
Традиционная рекомендация звучит как «до 10%» в зависимости от аппетита риск/доходность. Интересно, кстати, что такая рекомендация – «ближе к 10%» – характерна для сбалансированных портфелей, потому что альтернативные инвестиции компенсируют портфель тогда, когда в акциях и облигациях все неважно, как, например, было в 2022 году. Прошлый год был худшим за многие годы истории и уникальным в том, что и акции, и облигации просели. Поэтому с точки зрения диверсификации вкладывать в класс альтернативных инвестиций еще никогда не было так разумно и актуально.
Мир возможностей в токене
Вы сказали о цифровых финансовых активах как об одном из подклассов альтернативных инвестиций. Зачем он нужен? В чем принципиальные отличия ЦФА от «обычных» активов?
Если быть точным, то ЦФА – это не класс активов как таковой, а новая форма контракта. Она позволяет, скажем, выпустить ЦФА на что-то, о чем ранее и подумать было невозможно как об инвестиции. Например, на часть картины или кусок драгоценного металла. То есть не на стандартный слиток целиком, а на его долю. При этом ЦФА особенно удобны, когда речь идет о базовых активах, связанных с особыми условиями хранения, поскольку существенно экономят на связанных с этим дополнительных издержках.
Как именно?
Например, вы владеете ценной картиной. У нее должна быть защитная оболочка, определенный класс охраны, страховка, специализированный транспорт для перевозки. Или вы владеете физическим золотом. Здесь вам также придется нести расходы на его хранение, безопасность и перевозку, платить за экспертизу при продаже. ЦФА же позволяет вам участвовать в росте стоимости актива – картины, золота, других ценностей, – при этом не нести все эти издержки. Точнее, нести их солидарно с другими владельцами, пропорционально вашей доле владения. Это намного проще и дешевле. Вы открыли свой электронный кошелек, приобрели актив, дождались его положительной переоценки рынком, потом его продали, ну и заплатили только сравнительно небольшую комиссию цифровой платформе и эмитенту токена.
В России это уже доступно?
Выпуск ЦФА на основе смарт-контрактов, токенизация активов – это целый мир возможностей. Но для того, чтобы он заработал как надо, сначала необходимо создать инфраструктуру и рынок. У нас уже есть хорошие наработки в инфраструктуре. Например, мы активно сотрудничаем с платформой Atomyze. Параллельно занимаемся рынком ЦФА, который пока находится в стадии зарождения. Чтобы он полноценно заработал, надо создать всю цепочку целиком.
Что должно появиться?
Нужен хранитель, или компания-владелец базового актива. Эта компания должна стать эмитентом ЦФА, разместить их на какой-то торговой площадке. Нужен вторичный рынок ЦФА, то есть обращение токенов. Вот все эти элементы сейчас находятся в процессе создания.
Как вы взаимодействуете с эмитентами?
Обычно эмитент приходит к нам с определенным продуктом, который он готов выпустить в виде ЦФА. Поскольку мы управляем портфелями инвесторов, знаем их риск-профиль, превалирующее соотношение риск/доходность, то можем заранее оценить, будет ли такой продукт им интересен.
В реальности изобрести продукт, который действительно был бы эффективен на рынке, непросто. Но мы очень скрупулезно к этому подходим. Консультируемся с эмитентом, помогаем улучшить продукт, делаем пробы – тестируем инфраструктуру, покупаем эти активы на свою банковскую позицию. Смотрим, как они себя ведут, проверяем системы, клиентский путь. Чем-то это похоже на настройку нового самолета или запуск нового лекарства. И как только мы понимаем, что все отлично работает, делаем масштабирование. У этого сектора есть очень большое будущее.
У вас есть прогноз, когда это большое будущее начнет себя проявлять? Когда рынок ЦФА будет готов?
Думаю, что целиком он будет готов примерно через год-полтора. То есть когда в цифровой форме будут предлагаться уже не один, а какое-то количество ЦФА, будет из чего выбирать.
Цифровизация активов в портфеле дает доступ к каким-то новым технологическим решениям?
Цифровизация активов дает возможность, во-первых, дробить их на доли. Во-вторых, в перспективе делать из них смарт-контракты, то есть «обкладывать» обязательными условиями. Это как если бы вы объединили в одном месте алгоритмическую торговлю и структурированные продукты.
Скажем, на базе технологий искусственного интеллекта?
Да. В контексте смарт-контрактов и искусственного интеллекта (ИИ) можно придумать гипотетический продукт, где работает стратегия автоследования с использованием ИИ, а смарт-контракт параллельно, по достижении определенных ценовых уровней по базовым активам, заказывает вам кофе за токены. Это, конечно, дело будущего, но инфраструктура ЦФА очень гибкая и строится как раз с прицелом на то, чтобы открыть чакры креатива для большого количества людей и искусственных интеллектов в будущем.
Недавний запуск цифрового рубля окажет какое-то влияние на весь российский рынок ЦФА?
Конечно. С одной стороны, это будет стимулировать не только платежи, но и обмен товарами, физическими и виртуальными, через цифровые платформы – так называемый товарный неттинг. С другой, это создание дополнительных «мостов» расчетов между центральными банками любой страны любыми финансовыми инструментами.
Правильные вопросы
Какие вопросы инвестор должен задать своему управляющему прежде, чем идти в эту историю?
Первый вопрос, который надо задать при покупке ЦФА на какой-то физический объект, скажем, на картину: «Что будет с моим токеном на картину, если с ней, с картиной, случится что-то нехорошее? Например, она сгорит или ее украдут».
И какой ответ?
Ответы могут быть разными. Но хороший, правильный ответ банка будет таким: «Картина застрахована, поэтому держателю токена будет выплачена денежная компенсация по страховому случаю».
И здесь возникают следующие вопросы: «Какую стоимость я получу, кто ее определяет? На основании чего происходит переоценка этого актива и как она отражается в стоимости ЦФА?»
В чем подвох?
Одна из особенностей ЦФА в том, что он сам может переоцениваться независимо от переоценки базового актива. И эта переоценка может быть не связана со стоимостью базового актива – той же физической картиной. Это как если бы мы купили акцию одной и той же компании на двух разных биржах. Скажем, во Франкфурте и в Амстердаме. Стоимость акции на этих площадках в силу разных причин будет различаться. На этом строится арбитраж: если я где-то что-то могу купить дешевле, а продать в другом месте дороже, то я буду это делать, потому что для этого есть экономические стимулы. Таким образом, цена постепенно балансируется.
И здесь, в случае с ЦФА, возникает непраздный вопрос: а кто выступает этим агентом, который берет на себя роль маркетмейкера? И что будет с ценой, если его нет или он не способен обеспечить достаточную ликвидность?
Сейчас, в процессе подготовки рынка ЦФА к полноценной работе, тестирования, мы сами ищем ответы на все эти вопросы по каждому отдельному ЦФА. Когда мы ответим на них себе, инвестор тоже получит ответы.
И если эти ответы инвестора удовлетворят?
Тогда ему надо задать управляющему следующий вопрос: «А что будет с моим токеном, если эмитент обанкротится?» Это важный вопрос, потому что под токеном всегда лежат определенные права требования к эмитенту. Например, право наследовать его капитал, долг, активы и т. п.
Наконец, стоит заранее поинтересоваться: «А что будет, если я приду на рынок, чтобы продать токен, а покупателей на него не будет? Тогда вы, эмитент, у меня его заберете? Если да, то по какой цене?»
И если хороших ответов нет?
Тогда мы не пускаем такой продукт к себе на полку. Это универсальный принцип – так мы поступаем не только с ЦФА. Например, у нас сейчас нет тех же продуктов pre-IPO, которые есть у конкурентов, ровно потому, что по ряду предложений мы так и не смогли добиться ответов у эмитентов, которые бы нас устроили.
Такого подхода мы придерживались всегда, и он себя полностью оправдывает. В этом году Росбанку исполняется 30 лет. У нас есть клиенты в прайвет-банке, которые с нами по 20 лет и более. Это показательно. На рынке все время и очень быстро что-то меняется. Но если вы работаете с клиентом честно, не пытаетесь предлагать ему что-то непроверенное, то он остается с вами десятилетиями. Наш подход на всем пути такой: инновационный, с огоньком, но очень ответственный.
Источник: WEALTH Navigator
Хедж-фонды против дефицита идей

Даниил Аплеев – о смысле и назначении хедж-фондов, их правильной интеграции в портфель и возможности импортозаместить этот класс активов в России.
Венчурная оттепель

«Венчурная зима» – популярная метафора для описания ситуации на российском венчурном рынке в последние пару лет. Часть инвесторов перестала вкладываться в российские проекты, часть потеряла интерес к высокорискованным сделкам, а многим стартапам пришлось выбирать между работой на отечественном и международном рынках. WEALTH Navigator узнал, чем сейчас живут российские венчурные инвесторы и есть ли у нас «звездные» стартапы с перспективами на глобальных рынках.
Инвестиции в элитную недвижимость на этапе строительства

Александр Икрянников – с анализом специфики момента и прогнозом на ближайшее будущее.
Мера всех вещей

Коллекционер Денис Химиляйне и галерист Сергей Попов соглашаются и спорят друг с другом о том, как понять значимость искусства, выясняют, зачем они занимаются своим делом, сравнивают Герхарда Рихтера с Васей Ложкиным, метеоритами и костями динозавра и обсуждают рациональный альтруизм, отсутствие вторичного рынка и свое влияние на положение вещей в арт-мире.
Венчурная оттепель

«Венчурная зима» – популярная метафора для описания ситуации на российском венчурном рынке в последние пару лет. Часть инвесторов перестала вкладываться в российские проекты, часть потеряла интерес к высокорискованным сделкам, а многим стартапам пришлось выбирать между работой на отечественном и международном рынках. WEALTH Navigator узнал, чем сейчас живут российские венчурные инвесторы и есть ли у нас «звездные» стартапы с перспективами на глобальных рынках.
Время альтернатив

Денис Асаинов – о том, на какие классы активов стоит обратить внимание предусмотрительному инвестору.
Что сегодня в тренде: современные инструменты инвестирования

Евгений Береснев – о перспективных инвестициях в цифровые финансовые активы, потенциале замещающих облигаций и оптимальной стратегии после резкого роста ключевой ставки.




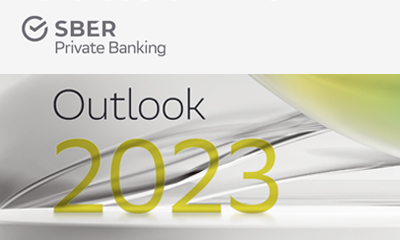
Оставить комментарий