Живые картинки Таус Махачевой
Проблемы долгого бытования произведений не слишком волнуют Таус Махачеву: ее интересует то, что происходит сегодня. Художник года Cosmoscow 2018, она представит на сентябрьской ярмарке свой спецпроект, а ее работы будут использованы для создания визуального стиля ярмарки. SPEAR’S Russia Таус рассказала о встрече внутреннего и внешнего Дагестана, о локальных корнях и глобальной художественной практике.

Таус, интерес к художникам, отображающим некую локальную культуру, бытийность, сейчас довольно велик. Вы не боитесь, что ваше творчество будут воспринимать как экзотику, нечто локальное, а значит – не первостепенное?
Мне мое творчество не кажется экзотичным. Я работаю с локальным контекстом, где есть и локальные смыслы, и глобальное значение. Я не столько показываю диковинный восток, сколько узнаваемые всеми паттерны поведения или проблемы. Выступаю как исследователь, смотрю, по каким принципам и законам – перформативной маскулинности, например, – этот мир работает.
Стать частью закрытого мира европейского искусства очень сложно, но я не думаю, что мои работы или работы таких художников, как, например, Акрам Заатари, включаются в биеннале по региональному принципу. Эти времена мы уже пережили (или вот-вот переживем). Мы находимся в удивительном моменте, когда художники объединяются и включаются в какие-то выставки на почве методологии и проблем, которые они исследуют.
Сугубо дагестанские смыслы будут ли понятны глобальному зрителю? Или вы через Дагестан транслируете нечто общечеловеческое?
Именно так. Работа «Канат» отзывается в сердцах международных кураторов, зрителей, сотрудников региональных российских музеев, так как говорит о нестабильности существования в художественном мире и самого художника, и тех, кто как-то связан с искусством. Да, там есть слой, связанный с региональной историей искусств, но он один из многих. Другие универсальны. «Канату» посвящена книжка, опубликованная фондом V-A-C в издательстве Mousse. Когда мы ее готовили – думали с руководителем издательского отдела фонда Митей Потемкиным и редактором книжки Владисом Шаповаловым, как донести произведение до зрителя. И решили сделать четыре текста: вступление о моей практике, которое написал Барт де Баре (куратор, директор Музея современного искусства Антверпена M HKA), второй текст написала Мадина Тлостанова (профессор Линчепингского университета, исследователь постколониального феминизма), которая хорошо понимает художественный контекст Дагестана, третий текст – это интервью с канатоходцем Расулом Абакаровым и, наконец, четвертый текст, предлагающий поэтическую интерпретацию, который написал Саби Ахмед из Asia Art Archive. Четыре разные оптики или уровня.
Вы изначально учитываете эти уровни?
Это само собой получается. Это тип высказывания, который мне интересен. То, что конкретно меня волнует. Когда я делала работу о дагестанских рыбаках, исчезающих в водах Каспия, я вспоминала работу Forensic Oceanography «The left-to-die boat» о лодке с беженцами, которую отказывались принять все государства, – и для меня эти воды и лодки чем-то похожи. Они исчезают, и никому до этого нет дела. Толчком для многих работ являются переживания, с которыми я сталкиваюсь в повседневной жизни.
Кто ваши поклонники?
Поклонники – не знаю, а зрители, кажется, совершенно разные. На недавней выставке я проводила экскурсию для молодежи из дагестанской диаспоры, ребята серьезные, выглядят партийно – но все меня очень хорошо услышали, и политическую мою позицию тоже. Было очень приятно, когда несколько смотрительниц подошли похвалить мою выставку. Не молодые медиаторы, которые разбираются, а женщины другого музейного поколения.
Нужно ли объяснять ваши работы?
Мы объяснений сознательно не давали, если речь идет о выставке в ММСИ, – подписи есть к паре работ плюс общий текст о выставке. Мы оставляем зрителю выбор: хочется перейти на следующий уровень – пожалуйста, нет – интерпретируйте как есть.
Работу нужно в какой-то момент отпускать, отдавать зрителю. Возможно, с моим объяснением ему будет интереснее – я без проблем играю роль человека-оркестра, получая от этого удовольствие. Но во времена моей учебы нас спрашивали: живет ли работа без этикетки или этикетка – ее часть? Работа должна случиться. Работа «Канат» случается без описательного текста. Конечно, если интересно, можно поискать к ней дополнительные материалы.
Как вы определяете баланс между актуальностью и эстетикой?
Для меня это всегда оправданность смысла. Работая над «Байдой», сюжетом об исчезающих лодках, мы утопили две лодки, проведя две съемки. Первая – потрясающей красоты: светило солнце, пока мы подплывали, на лодку сели две чайки, потом взлетели, лучи пробивались из-за облаков, все супер. И я поняла, что не то. Слишком красиво. Нужен туман, нужна серость. Нужна картинка хуже. Это тяжело – отказываться от хорошей картинки. Во второй раз картинка была плохая, но суперреалистичная. А в «Канате» красивая картинка нужна, нужны цвета, это оправдано в работе. Иногда приходится идти на жертвы.
«Байду» снимали в Дагестане?
Да, хотя в основе и лежит придуманная история о перформансе в Адриатическом море, рассказывающая об умирании, исчезновении. Я и менеджер моей студии Малика Алиева брали интервью у разных рыбаков, наговорили примерно 70 страниц, затем на их основании был написан текст Тимом Этчелсом, а потом мы записали его в Лондоне с прекрасными голосовыми актерами и наложили на видео. Венецианская биеннале только запустила его циркуляцию онлайн – все как я хотела.
Как долго обычно собирается проект?
Долго. Помню, один интервьюер задал такой вопрос и страшно удивился, узнав, что «Байда» заняла почти год. Думал, что снято за месяц и сделано на коленке. Сначала я попала случайно в селение Старый Терек, потом стала ездить в Венецию, смотреть архивы. Потом общаться с людьми, с рыбаками на рыбных рынках, затем стала ездить по деревням, брать интервью. Думала сделать реальный перформанс – и потратила время, чтоб понять, что это невозможно. Потом снимали, искали, кто напишет текст, озвучивали, а потом уже привезли в Венецию. И это только технический процесс, опустим сомнения, которые сопровождали каждое решение в процессе.
Сколько человек вам помогает?
У меня есть студия, где есть несколько прекрасных девушек – Малика Алиева, Камила Калаева, Надя Горбушина, – одна из них на фуллтайме (больше человек на фуллтайме позволить себе не могу). Иногда нанимаем операторов со стороны. Много народу было задействовано в «Канате». Сложнее всего по съемкам оказалась «Байда» – мы жили на Старом Тереке, суровое и маскулинное рыбацкое сообщество долго нас не принимало. Просишь, платишь, еще просишь, терпишь, жалуешься друзьям, терпишь, просишь, платишь. Ведь кроме местных, никто тебе лодку в море не затащит.
А как вы нашли канатоходца?
На фестивале канатоходцев мы его увидели с Маликой. Мы встретились с ним в Москве, и он загорелся – понял, что мы ему не глупость предлагаем. Натянули канат между двумя холмами, на высоте метров десяти. Переступая по этому канату, он переносит копии работ из Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой – это вся история изобразительного искусства Дагестана. История эта в принципе короткая – изо пришло с армией Российской империи в прямом смысле, с войсками пришли полевые художники, а ограничились мы 2000-м годом. Вместе с хранителями музея отобрали произведения, сделали копии.
Ваша художественная среда – мировая или российская?
Я живу, наверное, в мировой. Мои друзья-художники живут в разных концах мира, и это диалог без географических границ. Кто мне интересен, кто говорит со мной на одном языке – тот в нее и вовлечен.
Насколько для вас обязательна новизна?
Я современный художник. Новизна для меня – соединение каких-то вещей, которые подглядываешь и чувствуешь, с методологией разных художников, выражение чего-то, что ты думаешь и чувствуешь.
Насколько в вас сильно чувство национальной идентичности? Пришлось ли его взращивать?
Оно идет из семьи, и в этом много как позитивного, так и негативного. Я постоянно работаю со своей семейной историей, стараюсь отсеивать то, что мешает мне жить, оставляя то, что жизнь облегчает. Например, ощущение дома, семьи, природы, принадлежности к этой природе. Моя бабушка была директором музея, мама – искусствовед, она постоянно таскала меня по мыслимым и немыслимым вернисажам (они мне в какой-то момент так надоели, что я несколько лет отказывалась ходить в музеи), и эта насмотренность – то, благодаря чему я там, где есть.
Перед новым годом заезжала к маме за елочными игрушками и нашла пачку фотографий уже ушедшего Дагестана – они делали их в одной из экспедиций. Это как раз то, с чем я хочу работать. Когда у культуры нет слов себя описать и ты эти слова находишь – это удивительно. Поэтическое прошлое и искусствоведческое настоящее своей семьи я транслирую с помощью образов. Наверное, большинству моей семьи они непонятны. Маме понятны – она сама в свое время создала описательный язык для декоративно-прикладного искусства своего региона, описывая вещи, которые до нее почти никто не описывал.
Вы долго жили вне Дагестана. Как вы его нашли в себе и, приехав, соединили внутренний Дагестан с внешним?
Они до сих пор не совпали, мне кажется. Я в детстве жила там несколько лет, потом ездила на лето. В 2005-м я поехала учиться в Лондон и, как многие молодые люди, начала задаваться вопросом, кто я, откуда, куда иду. Искать, на что опереться в повседневной жизни. И нашла определенное приятие со стороны родных, определенную силу в своем прошлом. Понятно, что в какой-то момент ты отрываешься, понимаешь, что у тебя свое видение мира, не столь патриархальное, например, но тогда мне было очень важно быть принятой социумом, откуда я вышла. Мне кажется, тогда он меня принял – и сейчас тоже принимает, но сейчас мне это не столь критически важно.
Мой воображаемый Дагестан чуть лучше реального – это связано с возможностью сталкиваться с реальностью. Когда тебя все время представляют как внучку Расула Гамзатова и тебе открыты почти все двери, это накладывает свой отпечаток. Но я Таус Махачева, у меня свой путь и фамилия папы. Я на одну шестую Расул Гамзатов, но во мне много и всего остального.
Вы осознаете себя посланцем западной культуры?
Ой, почему западной? Я никого не хочу ничему учить.
Но вот ваш проект «Супер Таус» – вряд ли вы создали бы такое альтр-эго, находясь исключительно внутри дагестанской культуры.
Да, это правда. Я безмерно благодарна своей семье, что она дала мне возможность учиться за границей. Эта оптика позволяет иначе оценить действительность. Не принимать сложившуюся реальность – женский труд, например, – как нечто само собой разумеющееся. Я верю в абсолютное равноправие полов, когда дело доходит до любого типа работы. И моя работа «Супер Таус» – про тихий, невидимый труд, который ты принимаешь на себя и тащишь.
Как на нее отреагировали?
Я помню разговор с женщиной из дагестанского постпредства в Баку, увы, забыла ее имя, она сказала, что видела «Супер Таус», и это же мы. И это как раз самая красивая реакция. Общество у нас традиционное, основанное на семейных связях, никто не будет меня критиковать в лицо, хотя обоснованную критику я воспринимаю спокойно. Поэтому я не очень хорошо понимаю, каков реальный отклик. Критику я нахожу в основном в себе. Мы, как и наши родители, выросли с долей паранойи, негативного мышления, с которыми надо постоянно бороться. Это тяжелая борьба, и слава богу, если у вас есть психоаналитик, который вам с этим помогает. «Канат» я обсуждала со многими своими преподавателями и коллегами, и их слова вселяли уверенность, что я могу это сделать. Хотя звучало дико – какие-то горы, канатоходец, который что-то переносит.
То есть вы не мастер-одиночка?
Ни в коем случае. Я люблю думать с кем-то вместе и вслух. А иногда мне даже снятся какие-то решения, хотя об этом в художественных кругах и не принято говорить.
Ваши решения надо еще как-то технически реализовать.
Каждый раз ищем людей, которые могут помочь все это воплотить. Ищешь профессионалов для каждого проекта. В «Канате» нам очень помогал Мухтар Абакаров, папа канатоходца Расула Абакарова.
Каков процент вдохновения в вашей работе?
Я не знаю, что такое вдохновение. Я могу рассуждать об идее, о ее разрешении. Есть какие-то моменты на эмоциональном уровне – когда просто понимаешь, что сделать надо только так. Есть повседневный труд – когда надо заняться, например, счетами, перебирать архив, структурировать хранилище на 30 терабайт и так далее. А есть, конечно, ситуации, когда очень долго думаешь – месяцев по шесть – и потом, наконец, понимаешь, какая идея может сработать, иметь смысл для меня и людей, которые будут на это смотреть.
Как вы монетизируете свой труд?
До сих пор я не живу полностью за счет него, сейчас я пытаюсь выстроить систему, которая давала бы мне возможность заниматься тем, чем я занимаюсь последние 10 лет. Музейные закупки проходят очень долго, в какие-то музеи по два – два с половиной года. Плюс у меня мало работ, которые можно назвать коммерческими. Я в основном живу на гонорары за выставки. Не знаю, насколько я популярна на арт-рынке, мое сотрудничество с Cosmoscow – чудо, и основано это чудо исключительно на вере ярмарки в художественную практику. Я могу по пальцам пересчитать, в каких частных коллекциях есть мои работы (в основом это друзья, которым я их дарила). Мои работы периодически покупают институции, и это обычно видео. У меня в принципе мало объектных работ.
Очень помогла Cosmoscow, помог Арт Финанс, Газпромбанк, которые оплатили продакшн «Каната» и «Байды». Но это пока два-три случая в моей практике. Не так давно Земфира Трегулова в одном из интервью сказала, что хотела бы видеть мои работы в коллекции Третьяковки, – но, наверное, это будет опять меценатская история, так как наши музеи имеют очень ограниченные ресурсы на закупку современного искусства. Мне не слишком хочется превращаться в менеджерскую фигуру.
Будут ли пересматривать ваши работы через 20 лет?
Не знаю. Каждая работа принадлежит своему времени, на тот момент это то, что витало в воздухе. Смотрю иногда и понимаю, что сейчас сделала бы иначе.
Источник: SPEAR'S Russia #4(77)
Очень большая малая энергетика. Часть вторая

В продолжении своего большого интервью владелец ярославской инжиниринговой группы ПСМ («Промышленные силовые машины») Андрей Медведев рассказывает WEALTH Navigator о будущем децентрализованного энергоснабжения и объясняет, как наступившая эпоха рынка качественного производителя и его личный невротизм заставят компанию расти и сделают его миллиардером.
Очень большая малая энергетика

Ярославская инжиниринговая группа ПСМ («Промышленные силовые машины») – одна из самых амбициозных компаний российского энергетического машиностроения. Она занимается самостоятельной разработкой и производит дизельные генераторы, насосное оборудование, силовые приводы и спецтехнику, собираясь наращивать темпы роста и развиваться за счет покупок недостающих компетенций. В первой части своего большого интервью основатель и генеральный директор ПСМ Андрей Медведев рассказывает WEALTH Navigator о санкциях и ограничениях, правилах управления бизнесом, планах на M&A, первом общении с инвестбанкирами и вопросах к индустрии private banking.
«Жду, когда в радиобизнес придут диджитал-бренды»

Роман Емельянов – об инвестиционном потенциале радио, человечности российских медиаменеджеров и появлении диджитал-брендов в радиобизнесе.
Прагматичный романтик, седлающий единорога

Максим Спиридонов – редкий для России тип стартап-менеджера и технологического предпринимателя, сумевшего пройти все ступени классического венчура – от создания компании до ее продажи стратегическому инвестору. Последние два года, после выхода из «Нетологии-групп», которую Максим создал и развивал в течение 10 лет, он строит сообщество предпринимателей особого склада и новую децентрализованную корпорацию, которая – он надеется – может стать «единорогом». Как научиться оседлывать тренды, почему бизнес не может быть только о деньгах, но обязательно – с романтической подкладкой внутри и при чем здесь глобальная проблема одиночества, он рассказал в интервью Владимиру Волкову.
Мера всех вещей

Коллекционер Денис Химиляйне и галерист Сергей Попов соглашаются и спорят друг с другом о том, как понять значимость искусства, выясняют, зачем они занимаются своим делом, сравнивают Герхарда Рихтера с Васей Ложкиным, метеоритами и костями динозавра и обсуждают рациональный альтруизм, отсутствие вторичного рынка и свое влияние на положение вещей в арт-мире.
Аукционный марш быков и минотавров

Ксения Апель напоминает о значимости и стоимости Пикассо не для того, чтобы в очередной раз напугать ценами, а чтобы привлечь внимание к его доступности. Вернее, к доступности его керамики и графики.
Самоидентификация. Дорого

Большинство состоятельных коллекционеров покупают искусство, не думая об этом как об инвестиции. Далеко не все из них согласятся с мыслью, что это вообще имело какой-то финансовый смысл. Однако арт-рынок намерен расти, а хайнеты готовы тратить. Где, как и зачем они это делают, изучали в совместном исследовании Art Basel и UBS.
О времени арт-рынка

Валерия Колычева размышляет об инвестиционной привлекательности произведений искусства, проверяет на прочность идею о том, что при правильном подходе арт-рынок обыгрывает фондовый по потенциальной доходности, и Измеряет «справедливость» аукционных результатов в мысленном эксперименте.





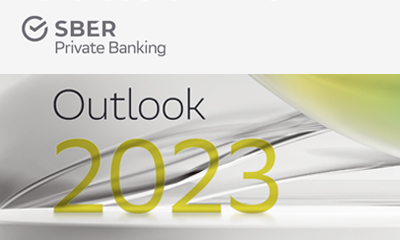
Оставить комментарий