Экономика образа
Место с необычным названием pop/off/art появилась в Москве на улице Радио в 2004 году, с тех пор оно обязательно попадает в десятку самых успешных галерей России. Здесь можно найти и классиков второго авангарда и самых молодых художников, стремящихся постоянно обновлять свое искусство. Основатель и директор галереи Сергей Попов согласился подготовить для PBWM.ru цикл колонок о ценообразовании и скрытых механизмах на рынке contemporary art, о том, как создаются «голубые фишки» от искусства и о том, сколько денег и удовольствия может заработать эмоциональный инвестор.

Сергей Попов
Директор галереи pop/off/art
В любой ситуации непринужденного светского общения представитель сферы современного искусства – будь то художник или дилер – всегда вызывает особенный интерес, сопоставимый разве с интересом к персоне известного актера, сколь скромным бы ни было его место в условной иерархии, и кем бы ни были его собеседники. Одно лишь упоминание о современном искусстве заинтриговывает мгновенно и магнетизирует надолго. Сразу хочется вспомнить что-либо с ним связанное, помимо намертво отпечатанных в сознании картинок из «Родной речи», передать привет Малевичу (наиболее просвещенные переадресовывают его Херсту). Хочется поинтересоваться, сколько же все-таки раз пресловутый Малевич намазал черных квадратов (а Херст – черепов с бриллиантами) и, в конце концов, почему они все так дорого стоят – никто точно даже не знает, сколько?!
Собственно, более-менее вокруг этого и будет развиваться весь наш дальнейший разговор. Отвечать придется достаточно развернуто, поэтому тем, у кого уже готов краткий и четкий ответ на эти и подобные вопросы, дальше читать нет резона. Четкость и определенность – однозначные враги искусства: должно же быть хоть что-то в нашем мире неочевидно.
Мне всегда этот неочевидный статус искусства был интересен. И осознавал я его также интуитивно – постепенно, методом проб и ошибок погружался в этот мир, в основном самостоятельно. Вообще, не надо думать, что причастные contemporary art – какие-то исключительные персонажи, понимающие то, чего смертному со стороны всегда будет казаться беспросветным темным лесом. Это точно не темный лес, а скорее цветастые морские пучины, и тем, кто знаком с дайвингом, будет понятно – несколько часов погружения достаточно, чтобы представить. Но дальше – погружаться-то можно сколько угодно. Только затягивает.
Для начала надо определиться с предметом разговора. Чем contemporary art отличается от «прочего» искусства? Ответ всегда кроется в самом названии, в слове-обозначении. Con-temporary и его идеальная калька в русском языке – со-временный – есть, если развернуть, – сопоставимый со временем. Смысл прост только на первый взгляд: далеко не все, создаваемое сейчас, в реальном режиме, в результате художественного творчества, будет современным искусством. Со-временный подразумевает – созвучный времени, адекватный, как выражаются гуманитарии – релевантный. Значит – не просто сегодняшний, но свежий, новый. Значит – с одной стороны – отделяем современное искусство от классического, с другой – отпадает банальный повтор, дилетантское творчество для себя, воспроизведение на потребу.
Сразу огорчу любителей подискутировать о значении (или незначительности) «Черного квадрата»: это как раз искусство классическое, устоявшееся, бесспорное. Хоть и авангардное. И дискуссии по его поводу принадлежат историческому времени, им уж скоро сто лет стукнет (первый «Квадрат» был написан в 1915 году, на пороге Первой мировой и за два года до Великой Октябрьской). Замечу только, что не вижу в нем, как и в любом другом классическом произведении авангарда, ничего более сложного для интерпретации, чем в первоклассном голландском натюрморте XVII века, ключевых картинах Рембрандта или Веласкеса, закрученных росписях соборов итальянского барокко или полных глубинного символизма древнерусских иконах. Иными словами, они равно непросты для нашего восприятия. И требуют разного подхода, отличной методологии.
В этом плане современное искусство куда как более ясно: это открытая система, как правило, нацеленная на диалог. Отсчет ей мы ведем с того же времени, что и современному миру: телевидение, кибернетизация вплоть до тотальной интернетизации, почти поголовная «усаженность» на машины и зависимость от гаджетов – все это приметы послевоенного времени. Они начали претерпевать качественные изменения лишь с наступлением нового, нынешнего века. То же можно сказать и о новом искусстве.
И, знаете, мое убеждение таково – не иметь представления о нем сегодня, в 2010 году, абсолютно неприлично. Можно не знать ничего о литературе последних полста лет, не ведать, что творится в новом театре, не следить за новостями квантовой физики. А вот без современного искусства – никуда, как без грамоты. Считаю так отнюдь не потому, что свет вдруг взял и неожиданно для всех сошелся клином на сфере приложения моих профессиональных усилий. Нет – дело в том, что наше восприятие, наше сознание в основном связано с поступлением и обработкой визуальной информации. Затрудняюсь назвать точные цифры, но порядок – на 75 – 80%. А за визуальность в нашем мире отвечает по преимуществу – примерно на тот же процент – современное искусство. А уж как это происходит, Бог весть – механизмы в основном скрыты. Но они есть: современное искусство связано и с дизайном, и с архитектурой, и с наукой, и с рекламой, и с экономикой, конечно, причем порой эти связи становятся обратными: оно влияет на эти сферы. Именно через визуальность, через ее выстраивание.
Ведь если вдуматься, изображение всегда имело огромное воздействие на общественную жизнь. Власть всегда старалась присвоить себе наиболее значительные и выразительные образы: вспомним египетских фараонов, римских императоров, папские заказы эпохи Возрождения или наполеоновский стиль ампир. Ближе к нам – художественные заказы тоталитарной советской власти, которые по-прежнему окружают нас. С конца XIX века связь власти и изображения становится более сложной, более опосредованной – так ведь и сам мир стал сложнее, в нем все меньше ясности по поводу того, кто держит рычаги управления.
Так или иначе, искусство неизбежно связано с капиталом, управление которым сосредоточено в руках власть предержащих. Но обладает оно и капиталом собственным – символическим, заключенным все в тех же образах, мощь действия которых чаще всего весьма трудно распознать в реальном времени. Но мы чувствуем эту мощь, она почти гипнотизирует нас – поэтому мы и заговариваем об искусстве, как о чем-то общем для каждого из нас. Эту мощь в первую очередь осознавали сами творцы – и такие мастера, как Казимир Малевич, чьи картины, будем говорить, практически не имели шансов быть проданными при жизни, и такие, как Энди Уорхол, сознательно подчинившие себе эту практику, превратившие ее в конвейер по добыче прибыли. Чего стоит только пример известной (и довольно растиражированной) работы последнего с изображением знака доллара на цветном фоне – сегодня рыночная стоимость некоторых ее вариантов составляет десятки миллионов долларов.
Итак, современное искусство с экономической точки зрения является символической инверсией капитала. Своего рода его гримасничающей обезьяной. Или выпуклым «венецианским» зеркалом. Но ведь если мы вдумаемся – и сам капитал тоже во многом носит характер символический. Да, конечно, по большей части он обеспечен «твердыми» активами: золотом, промышленными предприятиями, возведенными объектами недвижимости. Но мы хорошо знаем и то, насколько он виртуализировался в последнее время, и сколь значительную роль в его постиндустриальном ландшафте играет «экономика образов». Так что неудивительно, что взаимодействие искусства и бизнеса в различных, порой весьма причудливых формах, также становится одной из примет нашего времени. Что ж, если они способны обогатить друг друга – а тому есть множество примеров – к этому стоит отнестись с максимальным интересом и открытостью.
Удачно слиться

Алексей Куприянов – о том, почему растет роль консультантов в структурировании сделок и какую добавленную ценность приносят своим клиентам инвестбанкиры.
Как потерять клиента

Виталий Дашин задумывается о том, к какому беспорядку может привести идеальный порядок, и вспоминает несколько историй из своей банковской карьеры в Швейцарии и Лихтенштейне.
Манипуляции на максималках в замыленной субъективной реальности

Руслан Юсуфов – об устройстве информационных пузырей, механике неравенства, могуществе технологических компаний, бесправии пользователей, культах будущего, конспирологических искажениях сознания, а также о важности самонаблюдения и надежде, которую искусственный интеллект и люди то дают, то отнимают друг у друга.
Состояние ума

Павел Бережной – о том, что такое mindset инвестора и какое значение он имеет на практике.
Аукционный марш быков и минотавров

Ксения Апель напоминает о значимости и стоимости Пикассо не для того, чтобы в очередной раз напугать ценами, а чтобы привлечь внимание к его доступности. Вернее, к доступности его керамики и графики.
Самоидентификация. Дорого

Большинство состоятельных коллекционеров покупают искусство, не думая об этом как об инвестиции. Далеко не все из них согласятся с мыслью, что это вообще имело какой-то финансовый смысл. Однако арт-рынок намерен расти, а хайнеты готовы тратить. Где, как и зачем они это делают, изучали в совместном исследовании Art Basel и UBS.
О времени арт-рынка

Валерия Колычева размышляет об инвестиционной привлекательности произведений искусства, проверяет на прочность идею о том, что при правильном подходе арт-рынок обыгрывает фондовый по потенциальной доходности, и Измеряет «справедливость» аукционных результатов в мысленном эксперименте.
Искусные стратегии

Валерия Колычева — о трех частях арт-рынка, выигрышных практиках «культурного» бизнеса и социально-экономическом измерении хорошего вкуса.




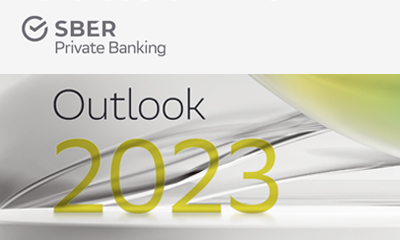
Комментарии (5)
[email protected] 14.10.2010 00:20
Milostivii Gosudar' gospodin, Popoff S. Gelal bi vistavit u Vas Dobujinskogo, Verbova, Mashkova/tsveti/ 1914 g.dve akvareli Voloshina i dr. S uvaj. Vasily Kh.
николай 09.10.2010 01:34
Сергей Попов настоящий профессионал и умница. На его мнение всегда можно положиться. А если у него какие-то неудачи в биснесе, о чем мне не известно, -то это бывает
Serg 29.09.2010 08:50
GREAT
Константин 28.09.2010 23:20
Сергей Попов давно известен в арт-кругах. Но репутация его значительно хромает, и уж кому-кому, а писать о бизнесе и искусстве нужно уж точно не ему. Удачи
Виктория 28.09.2010 19:52
Замечательная колонка замечательного человека!
Оставить комментарий