Future Progressive: Павел Сорокин
О графене и Нобелевской премии, чуть не выброшенной в ведро, учебе до умопомрачения, дуализме в науке и светлом мире Стругацких.

С некоторых пор широкая общественность познакомилась с неологизмом «нанотехнологии». Приставка «нано» даже стала у нас модной. Она также присутствует в названии вашей текущей должности – вы ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Неорганические наноматериалы». Не могли бы вы пояснить, о чем речь? Чем вы занимаетесь?
Подобный термин – наша лаборатория и ее название – относится к научной инфраструктуре университета МИСиС, в котором я имею удовольствие работать. Меня интересуют прежде всего наноматериалы. Это тема, которой я начал заниматься во время учебы в Красноярском государственном университете, затем, в аспирантуре, а впоследствии – во время работы в США. В частности, очень плотно занимался знаменитым графеном. Поэтому, естественно, когда появилась возможность работать в рамках подобного проекта в России, я принял решение назвать его именно так – «Теоретическое материаловедение наноструктур». Мы моделируем свойства материалов с помощью методов квантовой механики. В этом отношении это больше похоже на теоретический эксперимент. То есть мы «скармливаем» компьютеру наши гипотезы, а компьютер нам отвечает.
И все же, можем мы каким-то доступным языком объяснить широкой аудитории, что же это за мир с приставкой «нано»? Мы уже можем пощупать их в реальной жизни?
По большому счету нанотехнологии уже в нашей жизни. Просто мы не акцентируем на этом своего внимания каждый день в силу некой плавности технологического развития. Приведу понятный всем пример: те самые процессоры, которые находятся в наших телефонах, – это уже нанотехнология. В одном квадратном миллиметре процессора более сотни миллионов транзисторов. Размер каждого транзистора приближается к одному нанометру. То есть сопоставим с размером атома. На самом деле это поражает воображение.
Давайте немного подробнее поговорим об упомянутом вами графене. В известном смысле это одна из самых ярких знаменитостей из мира нанотехнологий. За его открытие два британских ученых, выпускники МФТИ Константин Новоселов и Андрей Гейм, в 2010 году получили Нобелевскую премию. Тогда казалось, что это новое чудо, которое кардинально изменит известный нам мир. Увы, этого пока не произошло. Ожидания были неоправданно завышенными?
Графен, как и любой другой материал, несмотря на то что он прекрасен, обладает замечательными свойствами, не может изменить все и сразу. Но он существенно улучшит нашу жизнь, изменит наши технологии в будущем – это несомненно.
Как именно?
Мы начали разговор про нанотехнологии на примере процессоров. Так вот здесь мы фактически дошли до технологического предела: транзисторы на кремниевых пластинах достигают размера уже нескольких нанометров, и сделать их еще меньше с помощью старых технологий практически невозможно. Это физическое ограничение по материалу. На этом уровне поверхностные и квантовые эффекты начинают играть столь заметную роль, что этот транзистор просто не будет работать, как нам хочется. Выход здесь только один – переходить к новым технологиям. Графен имеет все, чтобы стать таким новым материалом будущего. Но с ним мы только в начале пути.
Это правда, что Новоселов и Гейм получили графен из графита, просто снимая слой за слоем с помощью липкой ленты? Звучит как-то слишком просто.
Так и было. Но гениальность как раз в простоте. И состоит она в том, что гениальный человек попадет в ту цель, которую никто не видит. Гейм как руководитель проекта поставил задачу получить в лаборатории максимально тонкую пленку графита. Ему было просто интересно на нее посмотреть – может, выйдет что-то интересное.
Сначала он поручил это аспиранту из Китая, который начал спиливать слои обычным способом. В итоге все сломал. Потом той же задачей занялся Константин Новоселов. И тот подошел к вопросу принципиально иначе.
Как именно иначе?
В микроскопии существует методика предварительной очистки исследуемого образца: к графиту просто приклеивается клейкая лента и затем отрывается. Весь мусор остается на ленте, а поверхность – чистой. И можно с ней работать. Клейкую ленту, естественно, всегда выбрасывают. Но вот Новоселов делать этого не стал. Он решил ее осмотреть и обнаружил там кусочки графена. То есть в этом весь интерес истории и состоит: Нобелевская премия была найдена на предмете, который все предшественники буквально выбрасывали в мусорное ведро. Вот такой грандиозный успех из таких, казалось бы, примитивных методов.
У человечества есть естественное, на уровне инстинкта, желание максимально сократить расстояние между наукой и ее прикладным применением. Что вы об этом думаете?
Между фундаментальной наукой и технологическим внедрением огромный лес, тайга, чаща, через которую мало какое научное изобретение может пробиться. Надо решить огромное количество проблем – прикладных, технологических, финансовых, – прежде чем удастся внедрить какой-то научный результат. Это естественный барьер. Это абсолютно нормально. Так всегда было, так всегда будет. Да, можно максимально сократить это расстояние, но оно все равно не исчезнет.
Например, между открытием транзистора в 1950-х годах и первым патентом в этой области прошло полвека. На всем протяжении этих лет шла огромная работа – постепенно, шаг за шагом. Сначала углубление понимания предмета, потом попытки найти наиболее оптимальный путь к достижению практического результата, потом сам результат. Без этого невозможно обойтись. Вообще нельзя создать алгоритм однозначного успеха в науке.
Создать алгоритм успеха нельзя, но построить инфраструктуру для процветания такого рода проектов, наверное, все-таки можно. Самый яркий пример – Кремниевая долина, где удалось создать инфраструктуру, объединяющую в одном месте бизнес, науку и образование. Может быть, этим и объясняется ее успех?
Надо понимать, что Кремниевая долина появилась не на пустом месте. Она возникла как пул высокотехнологических компаний, которые уже понимали, с чем они работают. Например, знали о колоссальных перспективах вычислительной техники. Но прежде чем она в реальности возникла, надо было пройти огромный путь, без чего Кремниевой долины могло не быть. И каждый раз этот путь надо проходить заново.
Вы считаете, что большим риском было бы объединение бизнеса и науки под одной крышей, в рамках одной институции из-за разной природы их интересов?
Это вопрос непростой. На первый взгляд наука бизнесу не очень нужна. Но только на первый. Сейчас все в нашей стране поняли, что далеко не все – новые технологии, разработки – можно купить. Просто не все продадут. Купите, например, атомную бомбу. Не получится – все прекрасно понимают, насколько это критически важная технология. То же самое касается и других областей. Тех же нанотехнологий, искусственного интеллекта и других фронтирных вещей. Все это нужно развивать здесь.
Но все это совершенно не противоречит интересам бизнеса, который прекрасно понимает, что ему будет лучше развиваться в стране с развитыми технологиями, грамотным и финансово обеспеченным населением, емким рынком.
Все это невозможно без науки. Если бизнес в России хочет жить в развитой стране, ему тоже придется вкладывать деньги в науку. На короткой дистанции такие вложения могут выглядеть как благотворительность, поскольку не принесут финансовой отдачи, но в длинную они окупаются сторицей.
Проблема в том, что в России как-то не очень привыкли мыслить и планировать в длинную. Может быть, в этом тоже кроется причина, по которой нет таких массовых инвестиций в науку? Государство должно быть оператором научных исследований? Задавать стратегические направления, выделять финансирование?
Государство должно играть в финансировании науки весьма важную роль, но и бизнес был бы здесь очень полезен. Это связано с тем, что текущая экономическая и политическая ситуация такова, что наша страна просто обязана быстро развиваться. Чтобы просто идти вровень с другими странами, нужно очень быстро бежать. Для этого необходимо намного больше ресурсов, чем может предоставить государство.
И повторю: бизнесу должно быть интересно вкладывать в развитие науки и образования. Хотя бы еще и потому, что ему надо где-то брать высококвалифицированные кадры. Вырастить, воспитать здесь свои дешевле, проще и эффективнее. Для этого, собственно, и надо финансировать университеты. К тому же это очень благое дело.
Что вы имеете в виду?
Вообще говоря, перед каждым состоятельным человеком в определенный момент встает философский вопрос: что будет с его деньгами после его смерти? Это сложный вопрос. И крайне обидно осознавать, что все, что ты делал в своей жизни, может раствориться, исчезнуть. Либо уйдет наследникам, а то и каким-то посторонним людям.
Второе – более вероятно. По статистике, до внуков доходит только 10-я часть состояний. В странах с высоким налогом на наследство государство фактически стимулирует бизнес вкладываться, тратить заработанные капиталы при жизни. На науку и образование в том числе.
В США я работал в Университете Райса. Это один из топовых вузов мира в области нанотехнологий. Так вот, он основан на деньги, завещанные человеком, имя которого теперь и носит. Я считаю, что это очень хорошая идея – иметь университет своего имени. Таким образом, вы оставляете его в памяти людей. Наука, на самом деле, – это прекрасная область деятельности человека, она не предполагает каких-то неприятных вещей.
Если наука будущего куется в высших учебных заведениях, то каким должен быть этот университет – университет будущего, скажем, через 15–20 лет?
Это многогранный вопрос. Мир меняется быстро. Вузы как институция, которая создает специалиста, просто обязаны следовать за тенденциями, не отставать. Выращивать профессионалов, способных работать в текущей ситуации, с одной стороны. С другой – вуз обязан давать мощную фундаментальную базу будущему исследователю, которая поможет ему расти в дальнейшем. И тут важно сохранить баланс. Всегда есть соблазн сделать что-то модное вроде «факультета ТикТока». Но это бессмысленно: к моменту выпуска специалиста этой области знаний уже, скорее всего, не будет.
Вы согласны, что можно отдать человека в хороший вуз, но нельзя научить его думать? Где находится эта точка перелома?
Университет дает путь. Но идти по нему должен сам человек. Когда я поздно вечером после рабочего дня возвращаюсь из лаборатории, то часто вижу студентов, которые развлекаются – танцуют, участвуют в КВН, занимаются увеселительными вещами. Мне в этот момент хочется подойти, схватить его за грудки и сказать: «Что же ты такое делаешь?» Ведь эти короткие шесть лет в вузе – уникальное время, за которое ты должен стать специалистом, которое уже никогда не повторится. Ты должен все свое время, все 24 часа в сутки учиться.
До боли в голове, до потемнения в глазах. Ты не имеешь права потратить это уникальное время на какие-то отвлеченные вещи.
Вот прям так строго?
Надо понимать, для чего вы идете в вуз. Если просто за корочками, то тогда, конечно, подобные отвлечения объяснимы. Но если твоя цель – стать специалистом в избранной области, ты не имеешь права тратить время попусту.
Поэтому университет будущего – это прежде всего ответственные студенты, которые пришли в него, чтобы учиться. Чтобы стать высококлассными специалистами.
Это справедливо и с точки зрения развития науки, в прикладном смысле тоже?
Во всех смыслах, я считаю. Потому что высококлассный специалист будет востребован везде: и в науке, и в бизнесе, и в прикладных вещах.
Просто есть достаточно распространенное мнение, что сейчас как таковые академические знания не нужны, а что, скажем, важнее «мягкие навыки». Что скажете?
Студент в университете должен научиться работать. Это очень важно, но не так уж и просто. Потому что студент – это подросток, который, поступив в вуз, неожиданно получает какую-то странную и непонятную для себя свободу. Не понимает, как с ней обращаться.
Это не вопрос ответственности? Разве задача вуза ее воспитывать? Это не должно быть заложено в человеке?
Вы знаете, я сам был большим разгильдяем в школе – где-то до восьмого класса. Потом моя мама, сотрудник вуза, также физик, сказала: «Все, хватит, погуляли, теперь я буду тобой заниматься».
Каждый день она давала мне задачи. Я как пацан не понимал этого, злился, сбегал из дома. Но она в этом отношении молодец – заставила меня работать, почувствовать ответственность. Так что я еще в школе научился этой постоянной ежедневной работе. И когда поступил в вуз, уже был готов.
Но были и обратные примеры. На нашем потоке было несколько первокурсников из физматшкол. Умнейшие ребята. В то время как я сидел, впахивал, пробирался через дебри, они просто сдавали все зачеты, легко решали любые задачи. Но как раз это была их большая проблема – они не научились работать. В итоге они все повылетали к третьему курсу.
Грустная история. Ну, хорошо, а кумира вы себе сотворили?
Есть такой академик – Лев Ландау. Это человек, которым я восхищаюсь, чью биографию знаю досконально. Он гений, вундеркинд, который уже в 13 лет умел дифференцировать и интегрировать, а в 14 поступил в вуз сразу на два факультета – физико-математический и химический. Превосходя всех студентов на голову, он, в отличие от многих, не расслабился, а, наоборот, учился до боли в глазах. Именно поэтому стал лучшим теоретиком в СССР, реализовал свои возможности. Вот это и есть задача: надо не просто окончить физматшколу, но иметь характер работать дальше.
У вас есть какие-то гипотезы, ожидания в отношении того, что случится, может случиться в науке в ближайшие 20–30 лет? Ждете от нее чего-то особенного?
Я могу сказать, чего не жду от науки: она не сделает наш мир лучше. Основная проблема в том, что человек благодаря науке и приобретая все больше возможностей сам не становится лучше или ответственнее.
Сейчас в мире идет несколько десятков войн. Расизм, национализм, конфликты на религиозной почве должны быть изжиты в человечестве. И наука здесь не поможет.
Я знаю, что вы любите фантастику – Стругацких, Азимова, Лема. Какие книги вы считаете пророческими или у вас есть своя собственная траектория развития нашего общества? Ответ, как и когда технологии нас поработят или убьют?
Хорошая фантастика, к которой, безусловно, относятся все перечисленные вами авторы, не про технологию. Она про жизнь человека в другом технологическом укладе. Это попытка фантаста описать, как будет чувствовать себя человек в новом мире, как изменится в нем социальная структура человечества.
Это самое важное. Стругацкие описывали прекрасный мир, в котором технологии принесут лишь добро. Нам надо к этому стремиться. Быть ответственными за технологии, друг перед другом. Тогда можем ожидать светлое будущее. Если технологии будут использованы лишь для извлечения личной прибыли, ради власти, ни к чему хорошему это не может привести.
Давайте все-таки попробуем найти повод для оптимизма в будущем. Вы можете назвать три отрасли, где ожидаете самых ярких научных открытий? Которые все-таки дадут нам надежду на лучшее завтра?
Во-первых, это вычислительная техника. Считаю себя счастливым человеком: я родился в 1982 году в другой стране, цивилизации. А также в другом технологическом этапе развития человечества. И я увидел, как приходит новая эра цифровой технологии, насколько она изменила и продолжает менять нашу жизнь. И это как раз тот случай, когда изменения к лучшему. И поэтому очень печально, что мы не всегда пользуемся возможностями, которые дают нам технологии.
Хорошо, вычислительная техника – во-первых. А что во-вторых?
Во-вторых, это материаловедение, новые материалы. В том числе на базе тех самых наноструктур, о которых мы уже поговорили. Они идут вместе с вычислительной техникой и уже сильно изменили нашу жизнь. Читаешь научные статьи, и иногда захватывает дух, насколько быстро все развивается. Хотя никогда нельзя сказать точно, когда то или иное научное открытие станет технологией, которая войдет в нашу повседневную жизнь.
И в-третьих?
В-третьих, это медицина. На молекулярном, клеточном уровне она уже сейчас творит чудеса. Посмотрите, та же самая вакцина «Спутник V». Ее создали буквально за считаные месяцы и лишь потом аккуратно тестировали на предмет безопасности. Насколько же мы хорошо развились, что научились создавать лекарство в такие сжатые сроки. Дальше будет только быстрее.
Павел Сорокин, доктор физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС»
В 2021 году ВТБ Private Banking при поддержке SPEAR’S Russia выпускает проект о будущем. Future Progressive – это обстоятельные разговоры с людьми, создающими наше Сегодня, о том, каким может быть наше Завтра. Герои проекта – крупные бизнесмены и ученые. В фокусе внимания – темы технологического, экономического, общественного и культурного прогресса, пути и стадии личного развития, возможные трансформации бизнеса и возникновение новых бизнес-моделей, оценка влияния мегатрендов на человека и рынки, выбор направления движения и жизнь после достижения цели. SPEAR’S Russia публикует избранные интервью из этого проекта (печатается с сокращениями).
Источник: SPEAR'S Russia
Очень большая малая энергетика. Часть вторая

В продолжении своего большого интервью владелец ярославской инжиниринговой группы ПСМ («Промышленные силовые машины») Андрей Медведев рассказывает WEALTH Navigator о будущем децентрализованного энергоснабжения и объясняет, как наступившая эпоха рынка качественного производителя и его личный невротизм заставят компанию расти и сделают его миллиардером.
Очень большая малая энергетика

Ярославская инжиниринговая группа ПСМ («Промышленные силовые машины») – одна из самых амбициозных компаний российского энергетического машиностроения. Она занимается самостоятельной разработкой и производит дизельные генераторы, насосное оборудование, силовые приводы и спецтехнику, собираясь наращивать темпы роста и развиваться за счет покупок недостающих компетенций. В первой части своего большого интервью основатель и генеральный директор ПСМ Андрей Медведев рассказывает WEALTH Navigator о санкциях и ограничениях, правилах управления бизнесом, планах на M&A, первом общении с инвестбанкирами и вопросах к индустрии private banking.
«Жду, когда в радиобизнес придут диджитал-бренды»

Роман Емельянов – об инвестиционном потенциале радио, человечности российских медиаменеджеров и появлении диджитал-брендов в радиобизнесе.
Прагматичный романтик, седлающий единорога

Максим Спиридонов – редкий для России тип стартап-менеджера и технологического предпринимателя, сумевшего пройти все ступени классического венчура – от создания компании до ее продажи стратегическому инвестору. Последние два года, после выхода из «Нетологии-групп», которую Максим создал и развивал в течение 10 лет, он строит сообщество предпринимателей особого склада и новую децентрализованную корпорацию, которая – он надеется – может стать «единорогом». Как научиться оседлывать тренды, почему бизнес не может быть только о деньгах, но обязательно – с романтической подкладкой внутри и при чем здесь глобальная проблема одиночества, он рассказал в интервью Владимиру Волкову.
Очень большая малая энергетика. Часть вторая

В продолжении своего большого интервью владелец ярославской инжиниринговой группы ПСМ («Промышленные силовые машины») Андрей Медведев рассказывает WEALTH Navigator о будущем децентрализованного энергоснабжения и объясняет, как наступившая эпоха рынка качественного производителя и его личный невротизм заставят компанию расти и сделают его миллиардером.
Левые и правые технологического спектра

Руслан Юсуфов спорит с Марком Андриссеном, Сэмом Альтманом, Сундаром Пичаи и Брайаном Чески, предсказывает протесты новых луддитов и пытается понять, «каким будет столкновение идеального видения будущего ИИ с реальностью его реализации».
Экономика и венчур. О чем писали в блогах

Финансы стремительно токенизируются, новые цифровые активы так или иначе используют почти все финансовые организации, установили исследователи GDF. Ценность сети – будь то блокчейн или нетворкинг – в количестве участников, напоминает предприниматель Джейсон Розенталь. Сэм Альтман из OpenAI полюбил разговаривать с компьютером после запуска новой языковой модели. Венчурный капиталист Чамат Палихапития исследует, как меняется роль медиа и их влияние на потребителей. Автор «Глобального неравенства» экономист Бранко Миланович вспоминает издания, которые он любил читать в разные периоды жизни, и сокрушается, что в нью-йоркском метро уже не встретишь человека с газетой.
Экономика и венчур. О чем писали в блогах

Инвесторы и исследователи размышляли, как государствам регулировать искусственный интеллект, чтобы соблюсти социальную справедливость и избежать усиления неравенства. Экономисты прощались с отцом поведенческой экономики, нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом, который умер 27 марта в возрасте 90 лет. Другой нобелевский лауреат, Жан Тироль, посмотрел на риски и возможности криптовалют беспристрастным взглядом экономиста. А гуру менеджмента Ицхак Адизес написал в своем блоге о простых радостях.





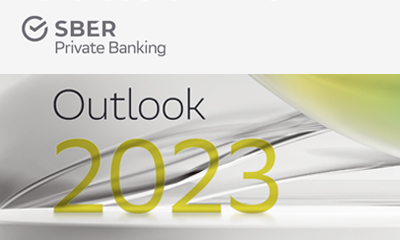
Оставить комментарий