Future Progressive: Михаил Пиотровский
Об одной перспективной урбанистической идее, гуманитарном мышлении, энциклопедическом музее и эффекте бабочки.

Михаил Борисович, вы говорили, что работу в Эрмитаже совмещаете с совершенно разными занятиями. Директор музея – это управленец и администратор. Какие еще обязанности вы на себя возлагаете?
Музей – это музей, а Эрмитаж – это громадное культурное явление и это универсальный музей. Таких совсем немного в мире. И поэтому директор Эрмитажа не должен быть просто управленцем. Вернее, до того как стать управленцем, он должен быть работающим ученым, он должен быть играющим тренером. Поэтому, например, я пишу книги, я просто обязан это делать.
Еще я преподаю в Петербургском университете, создал там кафедру музейного дела, руковожу Восточным факультетом и кафедрой Древнего Востока, а также возглавляю попечительский совет Европейского университета в Петербурге. И там я тоже иногда читаю лекции. У меня есть два курса. Один – «Исламская культура, исламское искусство». Второй – «Острые углы музейного пространства». Тут я рассказываю о сути нашего дела так, как может рассказать только директор такого музея, как Эрмитаж.
Все это нужно, чтобы моя специальность продолжала существовать, чтобы я сам оставался внутри своей специальности. Как раз совмещение в одном человеке активного ученого и управленца позволяет мне принимать сложные, иногда парадоксальные, интуитивные решения, которых требует Эрмитаж. Для этого необходим не искусственный сверхрациональный разум, а гуманитарное мышление.
С любой точки зрения Эрмитаж – главный музей страны. Но существует ли мировая музейная иерархия? Можно ли сравнивать Лувр, Прадо, Эрмитаж или это все от лукавого?
Как раз Прадо можно сравнивать с Эрмитажем, а вот термин «главный» не очень хороший. Мы его употребляем, когда нужно объяснить чиновникам, что наша точка зрения и наши позиции должны приниматься во внимание в четыре раза больше, чем чьи-либо другие, потому что мы флагман, мы тот большой корабль, который обеспечивает репутацию российских музеев в мире, с одной стороны, а с другой – относится к мировой системе музеев, где, конечно, иерархия есть.
Существует так называемый гамбургский счет, которого никогда не было, до того как его не придумал Шкловский. Счет, по которому ранжируются некоторые музеи (по богатству коллекции, по силе бренда). И вот наверху стоят Эрмитаж и Лувр, самые символичные для своих стран музеи. Британский музей без Национальной галереи выглядит неполным. Рядом, конечно, Метрополитен – Европа в Америке.
Верите ли вы, что публика всегда будет заинтересована в том, чтобы прийти именно в музей, а не на его сайт? Развитие интернета и виртуальной реальности заставляет подумать о том, что физический мир может утратить свою привлекательность. Пандемия показала, что это возможно.
Сложная тема, я считаю, что пандемия показала другое: что закрытый музей тоже музей. Он хранит, собирает, изучает. Ведь показывать – это лишь часть нашей работы.
Внедрение новых технологий и введение ограничений сделали музей роскошью. Не всякий может доехать до нас, не так просто купить билет, потому что для этого приходится пользоваться интернетом. Но вместе с тем 60% наших посетителей сегодня моложе 35 лет. Такого раньше не было нигде и никогда. Причем приходят люди, которые все понимают и наслаждаются физическим присутствием в музее. Появляется более качественный, что ли, посетитель.
Популярное определение Петербурга – город-музей. Может ли у большого города быть такая специализация? Ведь ни Париж, ни Рим, ни Лондон не ограничивают себя одной лишь чистой культурой. Какое будущее, на ваш взгляд, ждет Петербург в среднесрочной перспективе?
Если не поднимется океан, то все будет хорошо. А про город-музей у меня была постоянная дискуссия с властями, сейчас она уже поутихла. Мне говорили: «Михаил Борисович, нельзя же жить в музее?» На что мой ответ был: «Жить в музее значительно уютнее, чем жить на кораблестроительном заводе».
Наше отношение к Риму сформировано как раз тем, что это город-музей. Париж немножко другой. Он скорее музей парижского быта, музей XIX века. Это его конкурентное преимущество, которое притягивает людей. Города становятся привлекательными благодаря своей музейной ауре, в том числе и поэтому в Париже возникают, например, современные IT-компании, там обосновывается международный бизнес.
Многое может строиться вокруг музея, потому что музей вообще лучше окружающего мира. В музее очень хорошая экономика, она построена не на принципе максимизации прибыли, ее цель – достойный доход, позволяющий обеспечить существование.
Я думаю, что в основе нашей урбанистической идеи, подходящей, конечно, далеко не всем, лежит город-музей, остающийся хранителем памяти. Но это не отменяет всего остального, Петербург нельзя свести к чему-то одному. Ведь он часто упоминается как город, определяющий политическую культуру сегодняшней России. В нем есть те же самые IT-бизнесы, замечательные галереи, прекрасный порт, служащий символом дороги в мир, в море. В Петербурге есть все, кроме правительства, но это как раз хорошо. Поэтому некий упор на дело сохранения памяти никому не помешает, в конце концов, ответственность перед предками – это настоящая национальная идея.
Вы сказали, что продажа билетов через интернет омолодила аудиторию. Как будут меняться ваши посетители? И какие музеи будут создаваться под новые запросы публики?
Я не знаю, какие музеи будут создаваться. Мне важно, чтобы Эрмитаж был таким, какой он есть, а все остальные пусть на него равняются.
А вот изменение публики зависит и от смысла музея, и от общего контекста, например от существования общекультурных, общеобразовательных задач. Так, все советское время у нас была функция приучать малограмотных людей к искусству, к тому, что к великим произведениям стоит относиться почтительно и что хоть раз в жизни надо побывать в Эрмитаже. А если ты живешь в Петербурге, надо почаще бывать и в Эрмитаже, и в других музеях. Эта функция была выполнена.
Над временем, когда в Зимнем дворце ходили толпы рабочих, крестьян и военных с экскурсиями, иногда издеваются. Я считаю, что зря. Общий культурный уровень тогда действительно поднялся, но это нельзя сделать раз и навсегда, тут есть волнообразные подъемы и спады, которые не зависят от социально-политических пертурбаций. Может быть, через 10–20 лет нам снова придется этим заниматься.
Это одна часть. Другая состоит в том, что публика становится очень злой. Во всех социальных сетях люди комментируют нашу работу, уровень этих отзывов разный, но нельзя не заметить, как много в них зла и агрессии. Странная ситуация: музей должен гасить такие чувства, а он их рождает, это и обидно, и не вполне понятно. Тут мы вступаем на неосвоенную территорию, потому что вести диалог с публикой по принципу «сам дурак» нельзя. Однако можно, а иногда и нужно отвечать жестко и резко. А еще нужно не лениться разъяснять, что ты делаешь.
У нас была знаменитая история с выставкой Фабра. Первых разъяснений оказалось недостаточно, некоторые люди стали возмущаться, а когда мы занялись этим всерьез, оказалось, что это современное и якобы непонятное искусство все-таки доступно пониманию. Вам не нравятся чучела животных? Посмотрите на картины Снейдерса. Это те же мертвые тела, та же смерть, то же уничтожение. И тогда люди начинают прозревать.
Однако в сегодняшней рыночной логике клиент всегда прав. И отказ от этой максимы имеет понятные коммерческие последствия.
Он имеет финансовые последствия, но мы должны на это идти, потому что музей – не коммерческое учреждение. Он может что-то зарабатывать, но бессмысленно ставить ему чисто экономические KPI. Существует фундаментальная культура, существует политический заказ, существуют культурные индустрии. Одни зарабатывают деньги, других нужно опекать.
Но главное, за что мы все время боремся, – это отказ от слова «услуги». Музей не оказывает услуг, он выполняет великую функцию – сохранение памяти. То, что мы пускаем людей в музей, – это не услуга, нет. На самом деле мы даем им исключительное право пообщаться с тем, что храним. Это фундаментальное различие.
А вот когда мы устраиваем экскурсию – мы предоставляем платную услугу. Тут клиент прав и может требовать, чтобы экскурсия была интересной. Но настаивать, чтобы его пустили в грязной одежде, он точно не имеет права.
Некоторые российские бизнес-лидеры с огромным скепсисом говорят о современном образовании. Его цели и задачи, по их словам, не ясны, они содержат в себе много того, что не поддается количественному измерению, а значит, не поддается оценке. Кажется, в сфере культуры этот подход тоже получает распространение. Как это отражается на Эрмитаже?
Нам все время навязывают этот подход, а мы отбиваемся, предлагая свой. Например, какие численные критерии могут быть для музея? Один из примеров – не заработок, а то, сколько людей музей может принять бесплатно. Ведь такое посещение не с неба дается, этот билет надо, по сути, купить на деньги сотрудников. Недавно мы провели аукцион NFT, если получим заработанное, то уже решено, что вся сумма пойдет на возвращение льгот инвалидам.
Но в целом надо понимать, что цифры – это несколько примитивно. 0–1 – не верх мудрости. Сложно измерить в цифрах эффект, который музей оказывает на конкретного человека и на все общество. Может быть уместна аналогия с цифровым изображением. Такая репродукция Рембрандта, конечно, очень красива, но проигрывает оригиналу. Или цифровая музыка. Кажется, все уже поняли, что виниловые пластинки звучат лучше.
Иррационально? Да. Однако мы можем и должны научиться понимать иррациональное, потому что все сосчитать невозможно.
Нет ли здесь налета снобизма или элитарности? Рембрандт слишком дорог, а цифровой Рембрандт – это инклюзивно.
Да, безусловно. И во время пандемии это различие стало особенно заметным: не всякий может посетить музей, но практически каждый способен зайти на его сайт. У многих появление физического барьера вызывает неприятные чувства. Нельзя сказать людям, что они должны довольствоваться виртуальным миром, они хотят наслаждаться физическим.
На самом деле, формула ясна: музей – это роскошь, но мы обязаны сделать так, чтобы она была доступна всем. Это возможно. В общем-то, этим Эрмитаж и занимается. Хотелось бы только, чтобы все по-настоящему осознали, какая роскошь и какая радость им дана.
Вы историк-востоковед. Можно ли в вашей профессиональной области ждать громких открытий?
Пожалуй, можно. Хорошо было бы где-нибудь найти рукописи, которых никто не видел. Например, я занимаюсь Южной Аравией, где в Х веке работал ученый Хамдани, он написал 10-томный труд «Аль-Иклиль». Но известны только четыре тома, может быть, недостающие когда-нибудь и отыщутся. Это мечта, как, скажем, и обнаружение неразграбленного кургана. Такое иногда случается, мы имеем право мечтать.
Но еще интереснее выстраивание целостной картины в том, что касается истории Аравийского полуострова. Сейчас активно изучаются его север, Пальмира, Аль-Ула, юг, йеменские города, и мы начинаем лучше понимать древние цивилизации, которые жили на этой территории, у нас складывается представление об историческом единстве Аравии. Это очень важно, потому что именно здесь родилась великая религия – ислам.
Из Киплинга часто выдирают одну строчку и повторяют как заклинание: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Насколько хорошо мы понимаем друг друга сегодня? Можем ли мы избежать цивилизационных конфликтов или они заложены в природе вещей?
Киплинг сказал гораздо больше, там же целое стихотворение.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Должны быть сильные. Вот это и есть диалог культур, диалог на равных, диалог сильных. И тогда нет ни Запада, ни Востока. Тогда мы хорошо понимаем друг друга, понимаем всю заложенную природой разницу. У Киплинга в его поэме блестяще описано, как это происходит в людских отношениях. Кстати, этим и занимается востоковедение. Оно позволяет преодолевать барьеры, которые действительно существуют.
У Киплинга есть другое замечательное стихотворение – про то, как бедуин принял гостя – белого человека. Три дня он его опекал и утешал, но тот вел себя так плохо, смеялся, задавал неправильные вопросы, что в конце концов, когда истек срок обязательного гостеприимства, бедуин его зарезал. Это к вопросу о схождении культур. Мы должны делать так (и музеи тоже), чтобы люди понимали разницу и понимали, что разница – это прекрасно. Разница не должна быть поводом для ножа, пули или насмешки.
Но лично у меня пока нет особого оптимизма, мир не становится просвещеннее и добрее. Сейчас мы видим взрыв: глобализм рассыпается на национализмы. По большому счету и по малому тоже люди злятся и клевещут друг на друга, однако у культуры, науки, музеев остается та гуманная задача, которую я описал.
Еще один раздел исторической науки, близкий вам и благодаря собственной работе, и благодаря работе вашего отца, – это археология. Есть ли здесь шансы на повторение успехов Шлимана? Каких находок ждете лично вы? Можем ли мы совершить открытия, которые серьезно поменяют наши взгляды на прошлое?
Некоторый задел для этого есть, только не надо равняться на Шлимана. Не он нашел Трою. Все знали, что она там. Шлиман перепутал все слои, откопал не ту Трою, нарушил все правила, надевал все украшения. В общем, он создал красивую легенду, и она оказалась очень живучей.
Но удивительных историй в археологии было много и еще много случится. Иногда делаются по-настоящему сенсационные открытия. Вы упомянули моего батюшку, который нашел неразграбленный город Тейшебаини, где с каждым ударом лопаты на свет выходили удивительные вещи. А бывает иначе: перед вами стоят пустые и, в общем-то, всем доступные города, но, изучая их годами, вы можете построить целую схему того, как жила местная цивилизация. В будущем мы увидим открытия обоих типов.
По большому счету археолог должен быть очень настырным, занудным и педантичным в том, чем он занимается, тогда можно рассчитывать на неожиданный результат. А вот верить, что ты обязательно найдешь золотое захоронение, не стоит. Не найдешь и разучишься ждать.
О каких приобретениях для своего музея мечтает директор Эрмитажа? Насколько реальны эти мечты?
У нас есть закупочная комиссия, мы регулярно что-то приобретаем. Музей должен этим заниматься, хотя есть мнение, что это необязательно. Но я бы не хотел говорить о мечтах, потому что у нас очень высокая планка. То, что мне интересно, нигде купить невозможно.
При этом неожиданные вещи к нам приходят сами. Я когда-то хотел, чтобы в Эрмитаже был ХХ век, и у нас теперь есть все главные работы столетия. Есть Матисс, «Танец» и «Музыка», есть Кандинский, «Композиция № 6». Это было еще до меня, а уже в мою бытность директором появились «Черный квадрат» Малевича и «Красный вагон» Кабакова. Я не мечтал об этом, но так сложилось, что нам и то и другое подарили.
С подарками понятно, на них можно рассчитывать, а чего вы совершенно точно не ждете от будущего? Какие хорошие или плохие новости вас изумят?
Не знаю, можно ли это вычеркнуть из будущего, но я бы точно не хотел поднятия океана или массовых извержений вулканов, которые сейчас часто происходят. Другими словами, хотелось бы не назначать конец света на ближайшее время. А в остальном мне довольно трудно представить, какие именно новости будут приходить лет через 30. Мы ведь и прошлое все время переписываем, с ним бы справиться.
Самое главное – все-таки не угадать, что там за горизонтом, не успокоить себя мыслями о том, что дальше будет лучше, самое главное – не испортить будущее в настоящем. А мы ведь способны неожиданно что-то испортить, даже не заметив, что натворили. Об этом говорит теория бабочки.
Во всяком случае, нужно быть осторожными со всеми проявлениями человеческих различий, потому что все они могут пригодиться в будущем.
Вы сказали про эффект бабочки. Он хорошо описан в рассказе Рэя Брэдбери о том, как одно неловкое движение в прошлом катастрофически меняет настоящее. Как вы относитесь к научной фантастике? Считаете ли, что какие-то книги и фильмы очень близко подошли к тому, чтобы описать будущую реальность?
Не уверен. Когда начался новый психоз с искусственным интеллектом, я полез вспоминать правила робототехники у Айзека Азимова, который вроде бы внушал нам всем спокойствие, что роботы не страшны, что все будет в порядке. А теперь вдруг появились новые страхи. Хотя правила Азимова замечательно прописаны. Я бы очень хотел, чтобы разработчики ими руководствовались.
Интересно, как меняется набор любимых книг у российской интеллигенции. Однажды у всех на первом месте были «Двенадцать стульев». Потом главным стал роман «Мастер и Маргарита». Затем наступило время братьев Стругацких. Это читается и цитируется до сих пор. Сейчас, когда нужно объяснить, что такое NFT, я говорю, это неразменный рубль, как у Лескова, или неразменный пятак, как у Стругацких. Тогда мне самому становится понятнее.
Образы, рожденные фантастикой, применимы к нашему размышлению о настоящем. В советское время это была литература полета мысли, литература парадоксальных идей, в которой мы находили нестандартные параллели к сегодняшнему дню. Это было и остается хорошей тренировкой мозга.
Михаил Пиотровский, академик Российской академии наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, генеральный директор Государственного Эрмитажа
В 2021 году ВТБ Private Banking при поддержке SPEAR’S Russia подготовил проект о будущем. Future Progressive – это обстоятельные разговоры с людьми, создающими наше сегодня, о том, каким может быть наше завтра. Герои проекта – крупные бизнесмены и ученые. В фокусе внимания – темы технологического, экономического, общественного и культурного прогресса, пути и стадии личного развития, возможные трансформации бизнеса и возникновение новых бизнес-моделей, оценка влияния мегатрендов на человека и рынки, выбор направления движения и жизнь после достижения цели. SPEAR’S Russia продолжает публикацию избранных интервью из этого проекта. Первая часть была опубликована в предыдущем, ноябрьском, номере журнала.
Источник: SPEAR'S Russia
Прагматичный романтик, седлающий единорога

Максим Спиридонов – редкий для России тип стартап-менеджера и технологического предпринимателя, сумевшего пройти все ступени классического венчура – от создания компании до ее продажи стратегическому инвестору. Последние два года, после выхода из «Нетологии-групп», которую Максим создал и развивал в течение 10 лет, он строит сообщество предпринимателей особого склада и новую децентрализованную корпорацию, которая – он надеется – может стать «единорогом». Как научиться оседлывать тренды, почему бизнес не может быть только о деньгах, но обязательно – с романтической подкладкой внутри и при чем здесь глобальная проблема одиночества, он рассказал в интервью Владимиру Волкову.
Планка за горизонтом

Построив крупную международную управляющую компанию, ресторатор, совладелец GagarIn Group Виктор Гор занят новой стройкой – формирует вокруг себя успешное предпринимательское сообщество и благоприятную окружающую среду. О том, кто главный враг ресторана, в чем секрет долгосрочного партнерства, а также зачем надо любить собственные ошибки, ставить цели за горизонт и завышать планку для детей, он рассказал в интервью Владимиру Волкову.
Как важно быть несерьезным

Режиссер Юрий Муравицкий работает в самом сложном жанре: он ставит в театре преимущественно комедии. Его спектакли словно главы энциклопедии мировой смеховой традиции. Смех, как нам объяснил философ и культуролог Михаил Бахтин, устремлен к постижению истины ничуть не меньше серьезности: он разрушает всякую однозначность, вскрывает противоречия, создает пространство амбивалентности. Жанр же комедии помогает Юрию Муравицкому добраться до сути того текста, который он ставит на сцене, посмотреть на него с нового ракурса, увидеть ранее не замеченное и не проявленное. О важности иронии для общества, театре, который утоляет все печали, и оперном дебюте на Камерной сцене Большого театра Юрий Муравицкий рассказал в интервью WEALTH Navigator.
«Изучение богатых россиян проливает свет на мысли глобальных элит»

После прочтения книги «Безумно богатые русские» у редакции WEALTH Navigator возникло немало дополнительных вопросов к автору. Элизабет Шимпфёссль любезно согласилась ответить на них во время пространного интервью.
Удачно слиться

Алексей Куприянов – о том, почему растет роль консультантов в структурировании сделок и какую добавленную ценность приносят своим клиентам инвестбанкиры.
Как потерять клиента

Виталий Дашин задумывается о том, к какому беспорядку может привести идеальный порядок, и вспоминает несколько историй из своей банковской карьеры в Швейцарии и Лихтенштейне.
Манипуляции на максималках в замыленной субъективной реальности

Руслан Юсуфов – об устройстве информационных пузырей, механике неравенства, могуществе технологических компаний, бесправии пользователей, культах будущего, конспирологических искажениях сознания, а также о важности самонаблюдения и надежде, которую искусственный интеллект и люди то дают, то отнимают друг у друга.
Состояние ума

Павел Бережной – о том, что такое mindset инвестора и какое значение он имеет на практике.




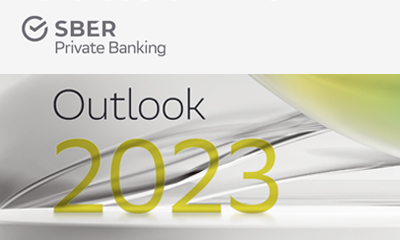
Оставить комментарий