Расширить поле зрения
Самый известный и основательный собиратель современного российского искусства – француз. Свою коллекцию он начал формировать еще в конце перестройки, и теперь в ней свыше четырехсот работ Тимура Новикова, Олега Кулика, Алексея Каллимы, Константина Звездочетова, Владислава Мамышева-Монро, Дмитрия Гутова и других новых классиков или претендентов на эту роль. В интервью SPEAR’S Russia Пьер-Кристиан Броше ставит под сомнение признанных авторитетов, объясняет, кто разрешает искусству считаться искусством, и называет имена трех консультантов, которых слушают московские миллионеры.

Мамышев-Монро, из серии «Триединство», 2003
В 2000 году в Лондоне прошла выставка. Она повторяла другую, точно такую же, случившуюся за 100 лет до этого. Там были представлены современные на тот момент художники, о которых думали, что они станут великими. Но оказалось, что процентов 70 из них забыты.
Недавно я беседовал в Париже с женщиной, вышедшей замуж за внука известного арт-дилера Поля Дюран-Руэля, торговавшего и Пикассо, и Гогеном. Она сказала, что самое главное – это, проснувшись утром, иметь возможность поговорить с кем-то. А коллекционеры, занимающиеся современным искусством, чувствуют определенную потребность в общении с художниками. Поэтому ошибки вполне вероятны, но они не смертельны. Ведь я получаю удовольствие от общения с этими людьми, получаю возможность смотреть на мир как-то иначе, немного критичнее, но с юмором. Это главное. А что будет через 100 лет и сколько будет стоить коллекция – проблема моих внуков. Дай Бог, чтобы они жили в мирное время.
Мы сегодня не помним художников, работавших во времена Караваджо и Леонардо да Винчи, но не купленных семейством Медичи или римскими папами. Что это значит? То, что и раньше, и сейчас выбор делает коллекционер. Вторая половина ХХ века чуть-чуть спутала карты. Если до этого все музейные коллекции собирались королями или богатыми людьми от тех же Медичи до Щукина и Морозова, то после Второй мировой войны появляется ряд директоров музеев, которые делают приобретения сами. Не за свой счет, а за счет бюджета. Это было их представление о современном искусстве. Правильные ли решения они принимали? Не знаю. Мне кажется, что когда ты тратишь собственные деньги, появляется особая ответственность. Как говорил Жак Лакан, если вы хотите хороший сеанс психоанализа, заплатите за него. Если вам его подарила бабушка, эффект будет не тот. То же самое и с нашим вопросом. Я не могу исключить, что ряд директоров мировых музеев сделали неправильный выбор.
Другими словами, признанные образцы «настоящего искусства» могут таковым и не являться? Или занимают чужое место?
Главный вопрос, который задают сейчас многие посетители музеев: «Это искусство или не искусство?». Вопрос в другом. Важно понять, кто именно решил, искусство это или нет. В Америке, в Германии, во Франции проще понять, кто заказывает музыку, в России окончательного ответа еще нет. То ли это галеристы, то ли премия Кандинского, то ли журнал «АртХроника», то ли коллекционеры, то ли арт-критики, то ли Валентин Дьяконов из «Коммерсанта», то ли Василий Церетели, то ли Ольга Свиблова. Если разделить по группам, то это кураторы, директора музеев, галеристы, критики и коллекционеры. Конечно, все говорят, что они самые главные, только коллекционеров пока слишком мало, и они просто молча покупают то, что им нужно, не пытаясь получить какую-то роль. Правда, за последние 20 лет ситуация несколько поменялась. Если бы в начале 1990-х вы познакомились с Мизиано, он бы сказал: «Главные художники – А, Б, В». На следующий день Бакштейн бы его поправил: «Ничего подобного, главные – Г, Д, Е». А Ерофеев заявил бы, что «они не понимают», и назвал бы трех других. И так далее, и так далее. У каждого было свое мнение о том, что такое современное искусство сегодня. Как коллекционер, я всех слушал, ни с кем не ругался, а пытался понять, почему кто-то кого-то поддерживает. Ясно, что по большому счету это проблема власти. Сейчас борьба за влияние продолжается, и она довольно острая.
У меня нет ответа на вопрос, кто главный, я только размышляю. Вот, допустим, Айдан Салахова говорит мне о ком-то, что сегодня это самый значительный художник. Почему? Потому что его поддерживает директор какого-то музея. Ну, о ’кей, это самый важный критерий или нет? Потом мне подсказывают, что на Sotheby’s продается хорошо. Ладно, пускай. Но когда вы смотрите на аукционные результаты достаточно известных художников, которые продавались в 1960–1980 годах, вы понимаете, что кто-то был тогда на пике, и не факт, что он туда вернется. Это тоже нельзя считать критерием. Так что мой ответ: если вам интересен этот круг людей, общайтесь с ними и делайте собственный выбор. В своем я убежден абсолютно. И теперь у меня есть небольшое преимущество: когда я, спустя 20 лет после начала коллекционирования, показал свое собрание в Музее современного искусства, все обалдели. Откуда у него такой нюх, ведь куплено так много работ? Понимаете, долгое время вообще никто, кроме меня, не делал никакого выбора, а сейчас сложилось мнение, что мой – самый правильный.
И все же вы нередко говорите о том, что коллекция – способ остаться в истории культуры, попасть в вечность. Конечно, для этого надо не ошибиться и, как бы это вульгарно ни звучало, распознать гениев.
Это зависит от того, с какой ноги я встал. Иногда ты думаешь о том, с кем будешь общаться вечером, иногда задаешься вопросом: «Смогу ли я попасть на скрижали истории?»
Существует мнение, что московские HNWI, покупающие произведения современного искусства от 100 тыс. долларов, слушают советы только Иосифа Бакштейна. Насколько оно справедливо? Можно предположить, что Марата Гельмана и Айдан Салахову они тоже слушают?
Это трио как раз и слушают. Но у Бакштейна есть преимущество: он руководит школой, через которую сегодня проходит 90% успешных молодых художников. За ним закрепился имидж человека, делающего правильный выбор. А почему? Потому что Бакштейн проводит половину своего времени в Лондоне, и как только какой-нибудь западный куратор засобирается в Москву, он сначала встретится с ним в Великобритании и получит рекомендации по поводу того, какие художники самые «правильные». Так что практически любой иностранный куратор делает выбор Бакштейна. У него есть власть выделять молодых и забывать более взрослых художников. Интересно посмотреть на то, сколько хороших художников сегодня вообще не выставляются на Западе, остаются без внимания галерей, без ничего. Они исчезли. Признания добились те, кто давно уехал: Кабаков, Булатов, Комар и Меламид. А поколение 45–60-летних оказалось брошенным. Я имею в виду Алексеева, Юликова, Альберта и многих других. Очень странно.
Совсем недавно я общался с Алексеевым. Это художник первого ряда. Сравните его работы с работами любого молодого художника, выбор будет простым: если уж кого и собирать, то Алексеева. Однако на Западе акцент обязательно будет сделан на молодежь.
И Никита Алексеев из этой ситуации уже никогда не выберется?
Думаю, что нет. Он уже не нужен. Его нельзя использовать так, как молодого художника. Это снова вопрос власти – как кураторы, галеристы, директора музеев и критики могут использовать художника для удовлетворения собственных амбиций?
Где вы видите свое место в этой системе?
У меня лаканская позиция. В конечном счете правильный выбор делают те, кто за него платит. Мнение молодого куратора 35 лет мне совершенно неважно.
Но куратор учился и знает Гваттари, может быть, не хуже, чем вы?
Может быть, лучше меня. И Гваттари, и Делеза, и Лиотара. Вряд ли он с ними общался, но это тоже не преимущество. Зато, и здесь никуда не денешься, или ты много всего видел, или мало – только в журналах. И вот это – однозначное преимущество. Мне гораздо легче сказать, что интересно, а что нет. А молодой критик – просто молодой критик, он может ошибаться. Понимаете, моя коллекция кому-то не нравится, но я так вижу ситуацию в целом и в своем выборе уверен. Организовываю какие-то маленькие выставки, как на «АРТ Москве» в прошлом году, и большие выставки, как те, что я устраивал несколько раньше, и еще мечтаю провезти их по всей России. В конце концов, я рассказываю о приятном общении с авторами этих работ. Очень редко, когда люди пытаются на самом деле понять, какую роль играют художники. И критики очень часто – это ситуация одинакова во всем мире – остаются просто плохими писателями и плохими философами, пытающимися использовать художников для удовлетворения собственных амбиций. Они просто не могут сами сформулировать какую-то новую идею и берут те, что уже разработаны художниками. Интересно, что философия в России практически отсутствует не менее ста лет, и мнение о политической ситуации в стране тоже. Нет философов, но есть художники, которые являются как бы и философами.
Довольно давно я говорил с Йозефом Кошутом. Я сказал: «Не понимаю, почему ты становишься всего лишь иллюстратором текста Жака Деррида». Тогда он выставил большие картины с текстами Фрейда и Деррида. Это была абсолютная иллюстрация. У меня возникает ощущение, что в 90% случаев концептуализм в России – это просто работы, которые даже не приблизились к интеллектуальному уровню того же Гваттари. Художник так и не стал философом, а его работы не приобрели настоящую философскую значимость и не решили художественных задач.
Бал, по вашим словам, пока правят не молодые критики, а совсем другие люди.
Да, и надо быть очень осторожным как раз с такими моментами, когда один человек рулит всей ситуацией. У нас с Бакштейном состоялся серьезный разговор летом прошлого года в Лондоне, тогда я задал ему вопрос: «Почему ты вообще никогда не поддерживаешь таких художников, как Сергей Ануфриев?» Он говорит: «Этот художник конченый». Но послушайте: этот человек все-таки сделал здесь столько, и его появление на московской сцене было настолько важным. Ануфриев приехал из Одессы, как вам известно, и здесь вместе с Пепперштейном устроил настоящий взрыв. Почему сейчас его надо просто игнорировать? Это очень тяжело, и такой позиции я не собираюсь придерживаться.
При этом куратору можно стареть, а художнику – нет.
Да, есть такое. (Смеется.)
Я тогда назову еще два имени, чтобы продолжить тему критиков, художников, философов и их слияния. Екатерина Деготь и Борис Гройс.
Знаете, по тем выставкам Бориса Гройса, которые мне приходилось видеть, я считал, что он – очень серьезный человек. Но Гройс бывает в Москве три дня в году, думать при этом, что он может определить ситуацию сегодняшнего дня, смешно. И Катя Деготь… Человек, с которым я люблю общаться, но тоже, к сожалению, редко ее вижу. Меня время от времени называют любящим тусовки, но, понимаете, я далеко не тусовщик. Я человек, который занимается своим делом. Хожу на выставки, смотрю, что происходит, чем занимаются молодые художники. Почему Борис Гройс и Катя Деготь так мало проводят времени в РФ и могут себе позволить делать громкие заявления, а также руководить Русским павильоном на Венецианской биеннале? Мне это трудно понять.
Может, потому, что они стали уже международными величинами?
Да никакие они не международные. В России так мало мест, где все происходит. Сделайте то, что я сделал. Мне могут сказать: это твой выбор. Хорошо, но кто-то из этих монстров ездил в Воронеж, в котором работает нереально фантастическая группа молодых художников? Я ездил туда, посмотрел их мастерские, галереи. Сейчас все знают Жиляева, Горшкова, знакомятся с Алексеевым. Но есть еще несколько художников, которые там работают. И нам надо копать. Я ездил в Хабаровск, во Владивосток, Новосибирск. Первую работу «Синих носов» я увидел у Гельмана. А через месяц поехал в Новосибирск их искать. Кто-то из этих наших критиков это делает? Почему я первый приобрел работу «Синих носов»? Причем в ту поездку я их не нашел, спустя две недели после моего возвращения в Москву они позвонили и пришли ко мне сами. Тогда и состоялась покупка. Кто-то же этим должен заниматься?!
В вашей коллекции есть и Дмитрий Гутов и Анатолий Осмоловский, художники левые, весьма критически настроенные к существующему порядку вещей. Не кажется ли вам странным, что их попадание в вечность осуществляется с помощью рыночных механизмов, с помощью проявления вашей власти коллекционера?
У меня есть несколько работ Осмоловского и Гутова. Я на них влияния не оказываю. На них не распространяется моя власть. Я могу играть подобную роль, когда молодой художник, который еще не знает, художник ли он или нет, вдруг начинает со мной общаться. О такой ситуации вам расскажет, например, Валерий Чтак: «Пьер пришел ко мне в мастерскую, посмотрел работы, интересовался, задавал вопросы, сколько это стоит, и достал бумажник из кармана». Я был первым, кто это сделал для него, для Алексея Каллимы, для Владислава Мамышева-Монро, для «Синих носов» и других. Вот эту роль я считаю очень важной. Особенно если человек создал себе имидж серьезного коллекционера. Понятно, что множество молодых художников мечтают попасть в коллекции. Не только потому, что я им дам какие-то деньги, но и потому, что они чувствуют себя увереннее, когда оказываются в коллекции, где есть уже достаточно большое количество работ, утвержденных музеями и западными выставками. Это важный аспект, а на власть над всеми художниками я не претендую.
Я назвал конкретные имена, но можно подставить другие. Вопрос, конечно, в том, что многие художники настаивают на автономности искусства, на том, что оно как минимум выходит за пределы товарно-денежных отношений, не сводится к рыночной логике. А власть коллекционера – это та власть, которая «товаризирует», «фетишизирует» искусство. Это противоречие, конечно, существует уже много веков. Вопрос один из самых часто повторяющихся, но удовлетворительно на него пока никто не ответил. Приходится ли вам об этом думать?
Это вопрос, которого не существует. Когда вы отправляетесь к врачу, вы платите за консультацию и получаете рецепт. Я думаю, что время от времени тоже получаю какой-то рецепт от художника. Есть игра, в которой вы иногда покупаете собственное отражение в зеркале, покупаете какие-то воспоминания, покупаете какой-то важный для себя образ. Я бы здесь был очень осторожным в определении «товар – не товар». Понимаете, когда я начинал собирать, я не думал о том, сколько это будет стоить – миллион или нет. И до сих пор особо не думаю об этом, я собираю вещи, потому что занялся этим так давно, что это уже стало формой существования. Я люблю аккумулировать определенные важные для себя вещи и наизусть знаю все работы, которые у меня есть, в том числе самые маленькие. Не только современное искусство, но и антиквариат.
Можете ли вы сделать предположение о следующем Русском павильоне на Венецианской биеннале?
Нет, и не хочу. Я обожаю Венецию, уже раз семь или восемь приезжал на биеннале. Это такой ритуал: в первый день бежишь в Лидо, купаешься, смотришь искусство, на следующий день – «Фрутти ди Маре»… Конечно, мне было бы приятно показать друзьям из Бельгии, Франции, Германии, Америки роскошный Русский павильон. Я видел неплохие работы, но всегда рядом были те, что лучше. Это сложная задача. Иногда думаю: выбирать ли одного художника на весь павильон, или двух, как сейчас часто делают, или много художников – что лучше? Хочется показать, какая сегодня в стране есть энергия. Было бы забавно превратить Русский павильон в Воронежский или Новосибирский – и написать не Russia, а Voronezh или Novosibirsk. Все может быть очень веселым. Когда-то я стал общаться в этих кругах как раз потому, что с этими людьми было весело. Сейчас уже не так. Но тогда, я вас уверяю, когда мы сидели с группой «Чемпионы мира» и Костей Звездочетовым на Чистых прудах, или когда мы пили чай вместе с Тимуром Новиковым, Евгением Козловым у Георгия Гурьянова с Владиславом Мамышевым-Монро – было очень весело.
То есть превратить жизнь в искусство важнее, чем повесить некий объект на стену?
Да, повесить объект на стену – это хорошо. Но здесь тоже такая игра. Поэтому я говорю о том, что коллекционирование – род терапии. Тут мы далеки от чистых инвестиций, хотя и они тоже существуют внутри процесса (тем более в России). Ошибиться достаточно сложно, пусть даже известными станут лишь 30% художников. Они будут стоить столько, что оправдают все инвестиции, – это раз. А два – само собирательство доставляет огромное удовольствие. Сначала вас просто окружают очень симпатичные вещи, потом они становятся дорогими, и вы понимаете, что сделали правильный выбор. Многие хотят его повторить. Почему Дубоссарский и Виноградов дорогие художники? Потому что, заглянув в их каталог, вы поймете, что практически все их работы находятся в известных коллекциях. Как ни крути.
Может, потому что они объяснимы? Их можно понять и перевести на другой язык. Тот же Звездочетов требует комментария.
Все требует комментария. Мне смешно, когда кто-то говорит, что классическое искусство понятно, а современное – нет. Ну что ты понимаешь в классическом искусстве? Мы были с сыном в Париже, отправились в Лувр посмотреть одну картину Лоренцо Лотто, которую я никогда не видел. Она оказалась в зале прямо за «Джокондой» – там картины, которые были приобретены в 1998 году. Я обходил еще раз Grande Galerie, и 14-летний сын задавал мне много вопросов: а почему так, а что это такое? И никаких однозначных ответов у меня не было. Любой объект, любая Мадонна с младенцем имеют какое-то значение, находятся в какой-то среде. Или как можно считать, что с иконой все понятно? Вот, например, очень редкая икона Трубецких, называется Ахтырская икона Божией Матери. Много людей знают про Владимирскую, Федоровскую, но они даже не могут их различить. Я думаю, искусство – это язык, что современное, что классическое, что старое. Для понимания нужно владеть хоть каким-то минимумом, знать алфавит, улавливать синтаксис.
Можете ли вы привести какие-нибудь цифры по тем работам, которые покупали в 1989–1991 годах (все они были, наверное, до 1000 долларов), и оценить, сколько бы они могли стоить сейчас?
По-разному. Если говорить об успешных, то это портрет Горбачева с красной точкой Монро 1990 года. Я приобрел его за 300 долларов, а сейчас он может стоить 250 тыс. Вот такой диапазон. Есть и другие случаи: от 100 до 10–15, 25 тыс. долларов, это нередко. Если вы начинаете собирать рано и быстро распознаете качество работ художника, то можете их приобрести достаточно дешево. Так было с Чтаком и другими. Пока очень мало кто собирает современное искусство. Я до сих пор этого не понимаю, не понимаю, почему в России так мало коллекционеров contemporary art, когда по всему миру их огромное количество. И это стало не только вопросом инвестиций – а стилем жизни, стилем путешествий. Люди весь год колесят по миру по разным арт-ярмаркам и выставкам, встречаются со своими друзьями-коллекционерами, с художниками, с галеристами. Ходят на ужины, на тусовки. Почему россияне, которые так любят тусоваться, так любят общаться и путешествовать, всего этого избегают? Лично для меня это единственный предмет роскоши, даже предмет культуры, который вообще можно себе позволить. Причем он не требует миллиардов, всего пары тысяч евро. Зато это искусство открывает вам очень много дверей по всему миру. Чтобы собирать, не нужно даже специального образования. Если у вас есть в голове тридцать имен и вы соображаете, кто такой Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Йозеф Бойс или Йозеф Кошут, вы быстренько поймете, что вокруг происходит. Еще вам нужно будет выучить несколько крупных категорий, таких как arte povera, и вы более или менее спокойно сможете войти в галерею. Разобраться во всем этом недолго. Как только люди в России втянутся в коллекционирование, начнется бум, который мы видим в Китае, где цены безумно растут. И вот тогда будет еще интереснее. За пять лет появится много художников, которые поймут, что они могут оставаться художниками и при этом получать хорошие деньги. И тогда потребуется выбирать жестко. А сейчас все просто: в России примерно 40 серьезных художников, и надо элементарно выбрать из них кого угодно. Или собирать всех. Победит Каллима – отлично, если не он, то Дубоссарский с Виноградовым или Монро, если не они, то Пепперштейн или Шеховцов. Я оптимист.
Сегодня стало модно говорить об инвестициях и фондах, связанных с произведениями искусства. На мой взгляд, эта тема скользкая. Я собираю с «детства» и не намерен это бросать. Но как только вы начинаете говорить о ценах, становится понятно: если появится не 10 коллекционеров, а 1000, то 50 картин, которые делает Каллима, скупят сразу. Выстроится очередь и на него, и на Дубоссарского с Виноградовым. А вместе с этим взлетят цены – уже не 10 тыс. евро, а 200 тыс. Но вопрос в следующем: если вы собираетесь создать фонд, то вам изначально ясно, где покупать – в галерее или на аукционе, это просто; неясно только, где продать и где продать выгодно. Аукцион здесь плохой помощник. Когда вы участвуете в торгах, цена на молоток плюс 25%, и есть еще множество мелких комиссий: транспорт и прочее. Это одна история. Когда вы продаете, то покупатель платит на 25% дороже, а вы получаете на 10% меньше. Очень тяжело сделать так, чтобы эта разница могла функционировать, – вам нужно, чтобы процент роста был достаточно велик, иначе настоящего бизнеса не получится. Поэтому, когда частный банкир обращается ко мне с вопросом, что ему делать с искусством, я всегда отвечаю: смотрите на искусство как на возможность увлечь жен богатых людей, их детей и их самих.
Это еще не бизнес.
Я видел только одну модель, которая функционирует как бизнес-проект. Ее создал один француз. Это Opera Gallery, 15 галерей по всему миру, и если вы к нему придете и скажете: «У меня есть миллион, и я хочу купить предмет искусства», то он ответит: «О’кей, покупай у меня и продашь потом у меня». Идея чем интересна: вы покупаете по хорошей цене, и человек, который заключил с вами сделку, готов выставить эту работу снова. Быть может, в другой части света и уже в другом контексте, когда она пройдет через выставки, каталоги. Если вы инвестируете в западное современное искусство, надо выбирать громкие имена и хорошие вещи. А в России над этим надо потрудиться, организовать выставки, делать промоушен.
То есть надо самому создавать стоимость?
А что такое выставка АЕС+Ф? Это роуд-шоу. Хотите сделать IPO, устраивайте роуд-шоу по всему миру. Здесь то же самое.
Вы ведь действуете как венчурный или private-equity-фонд, купили молодого Чтака, устроили несколько выставок, показали в разных городах, создали ему стоимость и теоретически теперь можете выйти из актива, если ваша цель была заработать деньги.
Да, это может функционировать. Только есть одно но. Если коллекционер-инвестор в ком-то разочаруется и продаст сразу много работ, он обрушит рынок. Так случилось, когда Чарльз Саатчи разлюбил Сандро Киа. Хотя, может быть, цены на него были искусственными.
Когда-то вы говорили о том, что основные банки используют сегодня индивидуальные стратегии коллекционеров XV века. Что имелось в виду?
Тут надо говорить именно о стратегии, слова «пиар» тогда не существовало. Италия в XV–XVI веках была разделена на несколько маленьких княжеств. И этими государствами руководили в основном разного рода военачальники или те, кто мог арендовать себе армию. Так вот, почему Леонардо бросил Флоренцию и приехал в Милан? Потому что понимал: Медичи – это Медичи, но правитель Милана тоже очень богат. И да Винчи начинает рисовать арбалеты и прочее оружие. Для него это чистая политика художника, как стать ближе к богатому человеку. Тот, в свою очередь, понимает, что его власть будет подтверждена, когда он станет не только человеком войны, но и человеком искусства. Простая идея: у тебя есть власть, но ты хочешь казаться еще лучше, тебе нужна культура как необходимый элемент статуса. Стратегия банков точно такая же. На самом деле, у всех банкиров в какой-то момент есть одни и те же продукты, которыми они торгуют. Инвестиции практически идентичные, проценты одни и те же. К кому идти клиенту? К тому, к кому приятнее.
Последний вопрос. Вы доказали свою состоятельность в том, что касается создания стоимости произведений искусства, то есть вы умеете превращать работы, которые стоили 10 тыс. долларов, в работы, которые стоят как минимум 40 тыс. долларов. Вот гипотетическая ситуация: к вам или к другому коллекционеру, у которого столько же энтузиазма, приходит человек с десятками миллионов долларов и нанимает вас как управляющего для создания и раскрутки коллекции и последующей продажи лет через пять–семь. Это может сработать?
Я думаю, что в контексте сегодняшней России это вполне может сработать. Причем это будет бизнес-модель, которая принесет много удовольствия. Как только это начнется, появятся музеи современного искусства в десятках городов России – настоящие, как в Бильбао. Определится новый тренд. И это будет не только русское, но и западное искусство. Правда, потребуются кое-какие изменения в законодательстве. Понимаете, как только в Самаре, Екатеринбурге, Воронеже, Новосибирске появятся музеи современного искусства, в которых будут представлены на постоянной основе и Каллима, и Монро, и Пепперштейн, ситуация изменится кардинально. Обновятся вкусы, другим станет образование. У публики возникнет доверие к художнику как к человеку, который хоть и не философ и не писатель, но создает нечто, расширяющее поле нашего зрения и нашего мышления. Это мой главный критерий в определении того, что есть современное искусство. С другой стороны, люди покупающие для себя, будут рады увидеть художников из своих собраний в этих новых музеях. Собственно коллекционеров станет гораздо больше. Ведь ясно, с чем был связан недавний бум коллекционирования русского искусства XIX века. Да просто с тем, что богатые люди видели в Русском музее и Третьяковке Коровина, Кустодиева и Айвазовского. Кого им было еще покупать.
Материалы по теме
Источник: SPEAR’S Russia
Аукционный марш быков и минотавров

Ксения Апель напоминает о значимости и стоимости Пикассо не для того, чтобы в очередной раз напугать ценами, а чтобы привлечь внимание к его доступности. Вернее, к доступности его керамики и графики.
Самоидентификация. Дорого

Большинство состоятельных коллекционеров покупают искусство, не думая об этом как об инвестиции. Далеко не все из них согласятся с мыслью, что это вообще имело какой-то финансовый смысл. Однако арт-рынок намерен расти, а хайнеты готовы тратить. Где, как и зачем они это делают, изучали в совместном исследовании Art Basel и UBS.
О времени арт-рынка

Валерия Колычева размышляет об инвестиционной привлекательности произведений искусства, проверяет на прочность идею о том, что при правильном подходе арт-рынок обыгрывает фондовый по потенциальной доходности, и Измеряет «справедливость» аукционных результатов в мысленном эксперименте.
Искусные стратегии

Валерия Колычева — о трех частях арт-рынка, выигрышных практиках «культурного» бизнеса и социально-экономическом измерении хорошего вкуса.






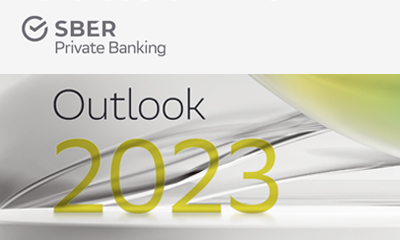
Комментарии (4)
Базальт 06.05.2012 00:12
Нельзя забывать о том, сколько власти концентрируется у художников. Тот же успешный Гутов влияет на положение вещей достаточно ощутимо. В перспективе 20-50 лет это будет заметно.
artbiz 05.05.2012 17:20
Последняя из высказанных идей мне нравится, но кроме Броше её реализовывать некому.
hedgehog fund 05.05.2012 14:50
А по-моему весьма занятно. Такой человек может себе позволить йоту самоуверенности.
Capital 05.05.2012 14:44
какой-то он самоуверенный слишком
Оставить комментарий